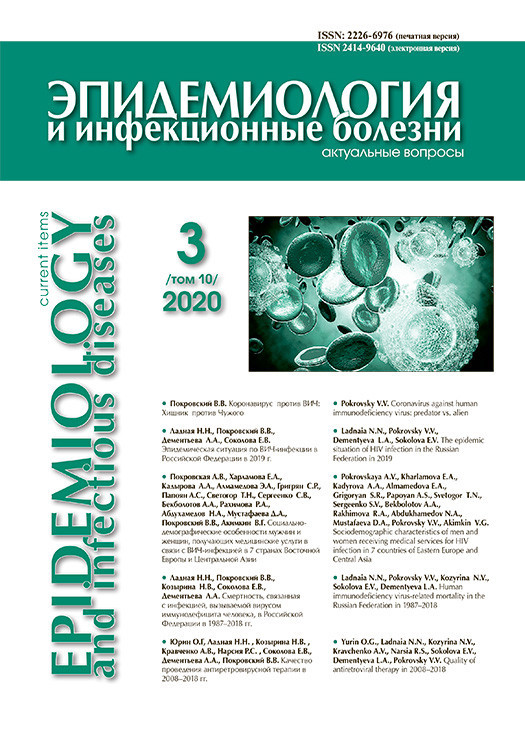Пандемия, вызванная новым коронавирусом Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2, ранее называвшийся 2019-nCoV), отвлекла внимание правительств и народов от текущих проблем, но есть надежда, что она заставит лиц, принимающих решения, обратить взоры на все инфекционные заболевания. В то же время распространение SARS-CoV-2 внесло хаос в экономику и отвлекло ресурсы от прочих областей здравоохранения, поэтому трудно предсказать, положительным ли будет конечный баланс влияния текущей пандемии на общее состояние борьбы с инфекционными болезнями. А внимания в первую очередь заслуживают не те из них, что вызывают наибольшую панику, а те, которые постоянно наносят больший ущерб человечеству как биологическому виду. Широко распространенные туберкулез, кишечные инфекции, малярия все еще уносят множество жизней, но людям кажется, что они были всегда, их рассматривают как привычное зло, и лишь тем инфекциям, которые начали повсеместно распространяться в обозримом временном периоде, присваивают звание пандемии.
В настоящее время в мире развиваются 2 признанные пандемии, вызванные распространением нового SARS-CoV-2 и уже поднадоевшего ВИЧ. Но какую из них считать более опасной? Можно ли вообще сравнивать ВИЧ-инфекцию и инфекцию SARS-CoV-2? С точки зрения традиционных эпидемиологии и учения об инфекциях, ВИЧ и SARS-CoV-2 являются возбудителями совершенно разных по всем эпидемиологическим и клиническим параметрам заболеваний. Но какая из инфекций наносит человечеству больше вреда?
В России, согласно официальной статистике (совершенствованию которой, как мы увидим ниже, нет предела), ведущей причиной смертей от инфекционных болезней остается ВИЧ-инфекция: с ней связано от 20 000 до 30 000 смертей в год. В России коронавирус по числу жертв немного «отстает» от ВИЧ: за первые 6 мес. распространения он унес около 9000 жизней россиян, но в общемировой статистике конечное число зарегистрированных в 2020 г. жертв SARS-CoV-2 может превысить годовое число жертв ВИЧ-инфекции. Однако этот первичный уровень смертности от SARS-CoV-2 уже вряд ли будет когда-либо превышен как вследствие эффективности принимаемых превентивных и лечебных мер, так и благодаря формированию иммунной прослойки.
Распространение SARS-CoV-2 вызвало в обществе гиперергическую реакцию, сопровождаемую разрушительными действиями, напоминающими приписываемый этой инфекции «цитокиновый шторм» в организме, и лишь когда этот «шторм» утихнет, можно будет приступить к оценке готовности международной системы противоэпидемической безопасности и готовности отдельных государств к подобным эпидемиям, а также сравнить научными методами эффективность проведенных противоэпидемических мероприятий. Например, таких, ранее никогда не применявшихся, как выдача электронных пропусков для передвижения на транспорте, электронное наблюдение за потенциальными источниками инфекции и т. д. Интересно проанализировать математическими методами, как повлияли на эпидемию ограничения по передвижению людей, закрытия производств и т. п., а также оценить своевременность введения и отмены того или иного мероприятия.
Постоянным читателям журнала, конечно, надо сделать и критические выводы, касающиеся нашей профессиональной деятельности. Оценены должны быть, например, рекомендации ВОЗ, продержавшиеся на сайте организации до июня 2020 г.: «Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 м, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV» [1].
Конечно, в ВОЗ могли не знать (и это наша недоработка) учения Л.В. Громашевского о локализации возбудителя в организме, предполагающее, что если возбудитель преимущественно поражает верхние дыхательные пути и легкие, то эта инфекция передается воздушно-капельным путем. Можно предположить, что рекомендации ВОЗ могли быть обусловлены тем, что в развивающихся странах маски недоступны. Например, ВОЗ не рекомендовала отказ от грудного вскармливания детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин, потому что заменители грудного молока в Африке недоступны, и ребенок умрет от голода. Но вот откуда взялась рекомендации о соблюдении дистанции «не менее 1 м»? Откуда появилась «социальная дистанция» в 1,5 или 2 м, хотя вирусы из группы ОРВИ на такие дистанции просто «чихали»? Эти вопросы говорят о необходимости иметь четкий и научно-обоснованный алгоритм чисто бытовых противоэпидемических мероприятий, которые должны вводятся сразу после возникновения опасной эпидемической ситуации.
Что же касается практической эпидемиологии и практики работы инфекционистов, то эпопея SARS-CoV-2 будет хорошим уроком из серии «на ошибках учимся» и позволит лучше подготовиться к будущим эпидемиям. К каким последствиям привело отсутствие инфекционных больниц, сокращение числа инфекционных коек, отсутствие достаточного количества мельцеровских боксов? Или SARS-CoV-2 показал себя внутрибольничной инфекцией только в Италии? Почему так много медицинских работников заразились? Каково значение отделений для больных с пневмониями, куда поступают пациенты с поражениями разной этиологии, в распространении инфекций? Весьма любопытны для оценки клиницистов такие применявшиеся практики, как постановка диагноза инфекции SARS-CoV-2 с помощью компьютерной томографии, лечение инфекции SARS-CoV-2 противомалярийными и антиретровирусными препаратами, эффективность применения ИВЛ и т. п.
Стоит также оценить роль СМИ и других электронных средств коммуникации в распространении сомнительной и даже абсолютно неправильной информации, публично исходящей от медиков самых разных специализаций, которых мы, несомненно, очень плохо обучили эпидемиологии в медицинских вузах. Возможно, это прямое следствие сокращения учебных часов по предметам нашего профиля. Впрочем, полную оценку адекватности реакции на распространение вируса SARS-CoV-2 можно будет сделать только по окончании первого годового цикла эпидемического процесса, однако уже сейчас ясно, что новый коронавирус оживит теорию эпидемиологии, и его появление целесообразно активно использовать для возрождения ее как фундаментальной науки.
Для повышения значимости наших наук особенно важно, что экономический ущерб от уже проведенных против SARS-CoV-2 мероприятий, часто совершенно бесполезных, и экономические потери от их проведения в сотни раз превысили все ранее сделанные расчеты возможных экономических потерь от распространения инфекционных заболеваний, которые мы обычно исчисляли путем сложения стоимости расходов на лечение и производственных потерь за счет временной утраты трудоспособности.
В дополнение к понесенному ущербу значительные средства уже выделены на создание вакцин и разработку лекарств против коронавируса, хотя обилие мягких и бессимптомных форм заболевания и быстрое формирование иммунной прослойки позволяют предполагать, что вакцинация от коронавируса показана только наиболее уязвимым контингентам населения: пациентам с хроническими заболеваниями (например, диабетом) и лицам, достигшим определенного, в данном случае пожилого, возраста. И это далеко не новый поворот в подходе к массовой иммунизации населения, который надо учитывать уже на стадии проведения клинических испытаний.
Хотя большинство специалистов пока увлеклись изучением антительного ответа на SARS-CoV-2, выявление бессимптомных форм инфекции, при которых его не обнаруживают, заставляет обратиться не только к исследованию клеточного звена, но и к изучению врожденного и конституционного иммунитета. Хотя несомненна способность человеческого организма формировать приобретенный иммунитет к этому вирусу, возможно, большая часть населения исходно защищена от развития клинически выраженного заболевания, вызываемого SARS-CoV-2. Вполне вероятно, что человеческий вид уже сталкивался с подобным коронавирусом много поколений ранее. Половина людей, встретившихся с SARS-CoV-2 вообще не заболевают, что указывает на существование частичного видового иммунитета. Возможно также, что существенную роль играют неспецифические защитные факторы слизистых оболочек, в том числе такие хорошо известные, как лизоцим, интерфероны и другие. Пока нет данных и о возможности формировании местного специфического иммунного ответа на появление короновируса, хотя известно, что такой ответ, в том числе в виде иммуноглобулинов класса Е, формирующийся во влагалище, может защищать от заражения ВИЧ.
По всей видимости, средними и тяжелыми клиническим формами болеют только те субъекты, у которых уже наметился «прорыв» естественной защиты. При этом и большинство заразившихся SARS-CoV-2 с клиническими проявлениями вылечиваются самостоятельно, несмотря даже на попытки лечить их первыми попавшимися (часто токсичными) препаратами, а это означает, что приобретенный иммунитет к SARS-CoV-2 вырабатывается. Поэтому разработка методов иммунопрофилактики заражения SARS-CoV-2 представляется сравнительно простым делом, и это подогревает творческий порыв исследователей и коммерческий энтузиазм их спонсоров. Но у них могут возникнуть проблемы, если выяснится, что вакцина против коронавируса будет разработана, но не будет широко востребована, как это случилось, например, с вакцинами против лихорадки Эбола, которую остановили другие противоэпидемические меры. Здесь надо отметить успехи по снижению заболеваемости инфекцией, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, которых за несколько месяцев удалось достигнуть благодаря традиционным простым мероприятиям по прерыванию передачи инфекции, и этот опыт, несомненно, еще пригодится.
Однако пора вернуться к тому, что пандемия SARS-CoV-2 развилась на фоне давно продолжающейся пандемии ВИЧ-инфекции. Конечно, обе инфекции могут вести к смертельному исходу, правда, ВИЧ – в большинстве случаев, а SARS-CoV-2 – в меньшинстве. Но и в самом понятии «смертность» скрываются существенные различия, потому что смерть наступает в разном возрасте. Вот тут-то обнаруживается самое существенное различие между ВИЧ и новым коронавирусом.
Любители кинематографа помнят, что фантазия киносценаристов породила двух новых чудовищ – Чужого и Хищника, реализованных талантливыми художниками и режиссерами. Они поразили воображение зрителей и вошли в список самых отвратительных химерических созданий, порожденных человеческой фантазией, наряду со сфинксами, драконами и т. п. Чужой, чей образ порожден хищными осами, откладывающими яйца в тело парализованных жертв (пауков, гусениц, жуков и др.) использует людей без разбора. А Хищник, который внешне похож и на паука, и на рептилию, несомненно, является пародией на людей, называющих себя «трофейными охотниками». Он убивает избирательно, предпочитая зрелых самцов, чьи черепа потом вешает на стенку у себя в космической квартире. При этом он не трогает беременных женщин и детей, то есть как и охотники, оставляет их «на развод». С Чужим герои многочисленных ремейков фильма так и не смогли справится, он умудряется надолго скрываться в теле героев фильма, а Хищник появлялся время от времени, только в жаркое время года и в «горячих точках» (сезонность). Показательно, что подростки, сравнивая образы, решили, что Хищник лучше Чужого. И сделали этот вывод потому, что поведение Хищника больше похоже на поведение человека.
Невольно возникает ассоциация между киномонстрами и возбудителями заболеваний, между ВИЧ и коронавирусом. ВИЧ убивает людей без особого разбора и пощады, пользуется для сохранения своего вида длительным скрытым периодом пребывания в организме хозяина, а короновирус «охотится» за пожилыми, предпочитает мужчин и, подобно Хищнику, «игнорирует» детей и беременных. Вероятно, его появление также будет носить сезонный характер. Если рассматривать инфекцию SARS-CoV-2 и ВИЧ-инфекцию с точки зрения влияния на демографические показатели, то и мы увидим, что коронавирус действительно выглядит намного «лучше».
Ранее автор этой статьи предложил «демографическую» классификацию инфекционных болезней по их влиянию на основные демографические факторы: рождаемость, плодовитость (фертильность), смертность, продолжительность жизни [2, 3]. Эта классификация позволяет оценить опасность той или иной инфекции для выживания человеческого вида. С темой продолжительности жизни связан и экономический аспект: современный уровень жизни зависит от состояния производительных сил, недаром в «Стратегии развития здравоохранения до 2025 г.»1 большинство поставленных задач прицельно направлено на «снижении смертности лиц трудоспособного возраста».
К важным социально-экономическим показателям следует добавить показатели, характеризующие последствия перенесенных инфекционных заболеваний, их влияние на качество жизни населения: имеются в виду в первую очередь снижение трудоспособности, инвалидность. В противоположность естественному стремлению к увеличению продолжительности жизни в экономическом отношении инвалидность расценивается как исход, худший, чем смерть, так как инвалиды переходят в категорию иждивенцев, то есть лиц, нуждающихся в дополнительной экономической поддержке.
Согласно демографической классификации, наиболее опасны для человеческого вида инфекции, вызывающие высокую смертность, в особенности детскую. Например, корь, малярия, полиомиелит, детские кишечные инфекции снижают численность населения и вследствие ранней гибели жертв сильно сокращают среднюю продолжительность жизни. Следует к тому же учесть, что умершие от этих болезней дети уже не будут участвовать в воспроизводстве населения, а полиомиелит создает еще и проблему трудоустройства и обеспечения большого числа лиц с ограниченными физическими возможностями. Эти инфекции, в частности, малярия, до последнего времени уносят огромное количество детских жизней в эндемичных регионах, а полиомиелит, дифтерия и корь продолжают как дамоклов меч висеть над населением даже самых развитых стран, заставляя нас не забывать о своевременной вакцинации.
Совершенно иную, но довольно коварную группу образуют инфекции, характеризуемые низкой летальностью, но значительно снижающие репродуктивную функцию. Их представляют эпидемический паротит, редко ведущий к смертельному исходу, но вызывающий бесплодие у значительной части переболевших мужчин, а также гонорея и многочисленные другие инфекции, передающиеся половым путем, которые часто снижают способность женщин давать потомство.
Весьма вредоносны и инфекции, склонные к эпидемическому распространению среди разных возрастных групп, они снижают и численность населения, и продолжительность жизни. Поражая население в репродуктивном возрасте, они тоже снижают будущее воспроизводство населения. Анализ исторических документов позволяет отнести к этой группе инфекций оспу, которая могла поразить ранее не переболевшего человека в любом возрасте. Поразительным примером влияния инфекций на демографические процессы и личные судьбы, о котором надо рассказывать студентам и противникам вакцинации, является судьба французского короля Людовика XV, которая была не только связана с инфекционными болезнями, а прямо-таки ими обусловлена. Сначала в возрасте 51 года от оспы (!) умер его дед, прямой наследник престола, потом от кори (!) скончались его отец, мать и старший пятилетний брат. Лишь Людовику, который был только 4-м в очереди на трон, посчастливилось в детстве выздороветь от кори, как полагают только потому, что его единственного из всей семьи не лечили «сильным средством» – кровопусканием. А после смерти прадеда Людовика XIV от «гангрены ноги», развившейся на месте травмы от падения с лошади, мальчик в возрасте 5 лет вступил на трон. Однако инфекции не отступились от него: в 64 года Людовик XV умер от оспы! Любопытно, что женщины в те времена боялись заболеть оспой не столько из-за страха смерти (тогда это трактовалось как «Бог дал, бог взял!»), сколько из-за того, что она могла обезобразить лицо любой красавицы. При этом, возможно, количество и местоположение оспины на лице могло прямо влиять на фертильность: многие девушки после перенесенной оспы уходили в монастырь.
Мы наблюдаем смертность от гриппа во всех возрастных группах, наиболее опасен он пожилым людям; лицам, страдающим тяжелыми соматическим заболеваниями; лицам с нарушенной системой защиты иммунитета. В какой-то степени грипп, распространяющийся сезонно и убиквитарно, выступает как эволюционный агент. Сторонники евгеники могли бы приветствовать его распространение, если бы могли доказать, что люди, погибшие от гриппа, были в биологической или социальной перспективе чем-то «хуже», чем выжившие.
SARS-CoV-2 по предварительным впечатлениям даже более избирателен, чем вирус гриппа: нет сомнений, что он убивает людей с особым образом нарушенным иммунитетом и специализируется на людях старше 65 лет, репродуктивный потенциал которых невелик. Интересно, что даже для больных ВИЧ-инфекцией короновирус оказался не столь опасным, как можно было предполагать. Таким образом, если короновирус сравнивать с хищниками, то не с самыми крупными и опасными, а с теми, которые следуют за стадом животных, ожидая когда какое-нибудь из них само свалится от болезни или старости. С демографической точки зрения инфекция SARS-CoV-2 не идет ни в какое сравнение с корью, убивающий детей, а при удобном случае и взрослых, и пока нет данных, что новый коронавирус влияет на фертильность населения. Некоторые даже верят, что долгий период изоляции в связи с эпидемией коронавируса, проведенный в семейном кругу, приведет к увеличению числа беременностей.
В этом плане интересно, что даже ВИЧ-инфекция, которая наносит гораздо более выраженный демографический урон по всем возможным параметрам [4], не смогла остановить рост населения в Африке, который поддерживался высокой рождаемостью, но на рубеже 2000 г. она вызвала там заметное снижение продолжительности жизни. Поэтому весьма вероятно, что эпидемия SARS-CoV-2 несильно повлияет на демографическую ситуацию в развивающихся странах.
Реальный уровень летальности от SARS-CoV-2 пока точно определить невозможно, так как в разных странах различаются критерии посмертного диагноза, применялись разные методы обследования населения на инфицированность SARS-CoV-2 и проводились они в разных масштабах, еще не определен окончательный процент инфицированного населения по отдельным странам. Очевидно, что чем у бóльшего числа людей выявляют наличие вируса, тем больше падает показатель летальности. Можно предположить, что окончательные показатели смертности от SARS-CoV-2 будут находиться в прямой связи со средней продолжительностью жизни (средний возраст смерти) в той или иной стране: чем дольше была продолжительность жизни в период, предшествовавший эпидемии SARS-CoV-2, тем выше смертность от этого вируса. Значение может иметь также процент молодого населения: чем он выше, тем ниже окажется уровень смертности.
Несмотря на авральный характер введения противоэпидемических мероприятий против распространения SARS-CoV-2, они оказались достаточно эффективными, чего пока нельзя сказать о мерах по борьбе с ВИЧ-инфекцией, хотя попытки оказать сопротивление распространению ВИЧ и уменьшению его вредных последствий продолжаются уже 35 лет.
Хотя международные агентства системы ООН и декларируют снижение общемировых темпов распространения вируса, пандемия ВИЧ/СПИД не только не отступает, но скорее разрастается, ведь ВИЧ-инфекция, в отличие от инфекции SARS-CoV-2, не излечивается ни самостоятельно, ни лекарственными средствами. По расчетам программы ООН по СПИД (UNAIDS), в 2018 г. заразились ВИЧ 1,7 млн жителей Земли, а умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ, 770 000 [5], то есть общее число лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), значительно выросло.
Современное лечение, важнейшим элементом которого является антиретровирусная терапия (АРТ), не излечивает ВИЧ-инфекцию, а при непрерывном проведении продлевает жизнь больных на много лет, поэтому общее количество ЛЖВ увеличивается и это происходит благодаря тому, что смерть ЛЖВ откладывается. Увеличение продолжительности жизни ЛЖВ достигается лишь при условии постоянного приема ими сразу нескольких лекарственных препаратов. Из-за этого закупки лекарств и прочие медицинские затраты приходится постоянно увеличивать. Так, в России число ЛЖВ, получающих АРТ, за прошедшие 10 лет достигло 500 000, а ежегодные расходы только на закупки этих препаратов пришлось постепенно увеличить с 2 до 30 млрд рублей, хотя цены на лекарственные препараты снижались.
Объем закупок лекарств придется и дальше постоянно увеличивать, так как пока еще далеко не все ЛЖВ их получают, и эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции, согласно специально придуманному термину, уже 30 лет «остается напряженной», что в переводе с поэтического языка означает «постоянно ухудшается». Со времени принятия Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (2016 г.)2, то есть с 2017 по 2019 г., было выявлено более 400 000 новых ВИЧ-инфицированных граждан РФ, и общее число зараженных ВИЧ в России выросло почти в 1,5 раза. Отмечается большое число впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией – в среднем 270 новых случаев в день(!), а также значительное число смертей ВИЧ-инфицированных россиян – в среднем около 100 в день (!). Общее число зарегистрированных Роспотребнадзором случаев ВИЧ-инфекции среди россиян, начиная с 1987 г., достигло 1 420 000, из них к настоящему времени умерли более 350 000 (см. статьи Н.Н. Ладной и соавт.).
После утверждения «Стратегии развития здравоохранения до 2025 г.», в которой ВИЧ-инфекция впервые отнесена к угрозам национальной безопасности в области здоровья населения, а снижение смертности от нее – к приоритетным задачам, Росстат с августа 2019 г. удостоил ВИЧ-инфекцию чести быть выделенной среди причин смертности от «некоторых инфекционных заболеваний» в оперативной сводке данных, то есть чести, которой раньше был удостоен только туберкулез. Впрочем, по предыдущим сводкам Росстата, число смертей «по причине ВИЧ-инфекции» уже несколько лет превышает число смертей от туберкулеза. Но об этих цифрах мы подискутируем ниже.
«Инфекция, вызванная ВИЧ», в сводках Росстата в 2018 г. была названа причиной смерти 20 597 россиян, что составило 59,5% всех смертей от «некоторых инфекционных болезней» (34 626 умерших), при этом туберкулез был назван причиной смерти только 8617 человек [4]. По данным того же Росстата, от ВИЧ-инфекции умерли больше россиян, чем вследствие ДТП, убийств, самоубийства и многих других причин. Хотя в России умерших от инфаркта миокарда больше, чем от ВИЧ-инфекции, хорошо известно, что средний возраст наступления смерти от инфаркта миокарда составляет 67–70 лет, а средний возраст умирающих от ВИЧ-инфекции – 38–39 лет, то есть ВИЧ-инфекция, в отличие от «главных причин смерти» – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний – преимущественно ударяет по трудоспособной части населения.
По разным оценкам численности трудоспособного населения России, которая рассчитывается отдельно для мужчин и женщин, исходя из разного возраста выхода на пенсию, ВИЧ-инфекция в 2018 г. унесла жизни от 4 до 5% россиян трудоспособного возраста, а все умершие в этом возрасте ВИЧ-инфицированные составили от 8 до 9% всех потерь трудоспособного населения. Особенно велика доля ВИЧ-инфекции в структуре смертности женщин трудоспособного возраста (см. статью Н.Н. Ладной и соавт. «Смертность, связанная с инфекцией, вызываемой вирусом иммунодефицита человека, в Российской Федерации в 1987–2018 гг.»), что, конечно, не может не влиять и на воспроизводство населения. Даже если предположить, что почти половина ВИЧ-ифицированных могла умереть не от ВИЧ-инфекции или, как пишут в ЮНЭЙС, от «заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией», а от каких-то «иных причин», это никак не отменяет угрозы ВИЧ-инфекции для демографического и экономического благополучия нашего народа.
Определенную проблему при анализе эффективности борьбы с заболеванием создает то, что одна из задач Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу формулируется как «снижение частоты случаев смерти от СПИДа». Такая задача, однако, является оторванной от системы надзора за ВИЧ-инфекцией, так как диагноза «СПИД» нет ни в показателях Росстата, ни в принятой в России классификации ВИЧ-инфекции. В современных международных документах термин «СПИД» употребляется в форме «ВИЧ/СПИД», где он присутствует как дань истории изучения заболевания.
Большую сложность для практического здравоохранения представляет диагностика СПИДа (см. статью В.И. Шахгильдяна и соавт.). Следует учитывать, что диагностика СПИДа основана в первую очередь на диагностике оппортунистических заболеваний, которые входят в ограниченный список СПИД-индикаторных заболеваний. Как показывает опыт, на фоне вызываемого ВИЧ иммунодефицита могут развиться многочисленные инфекции и опухоли, которых в этом списке нет. Большинство российских медицинских учреждений пока не имеет возможности диагностировать значительную часть «СПИД-индикаторных» и других заболеваний, поэтому среди причин смерти ВИЧ-позитивных лиц перечисляются: «болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлением множественных инфекций» или «…с проявлениями других бактериальных инфекций», или «…в виде других состояний» и т. п. (см. статью А.В. Кравченко и соавт.).
И что делать с более редкими паразитарными заболеваниями в условиях, когда число специалистов по их диагностике в России приближается к нулю? (см. обзор Т.Н. Ермак). Не является ли одной из причин повышенной смертности от ВИЧ-инфекции неудовлетворительный уровень диагностики вторичных заболеваний и, следовательно, их лечения? Даже в столичной клинике у поступивших туда ВИЧ-инфицированных больных с тяжелыми проявлениями присоединившихся инфекций отмечалось «доминирование в их структуре бактериальных пневмоний неясной этиологии (44,6%), а у 40,1% больных диагностирован энцефалит неуточненной этиологии...» (см. статью С.Л. Вознесенского с соавт.).
Эта проблема в значительной мере обусловлена тем, что диагностика и лечение сопутствующих (в том числе оппортунистических) инфекций, за исключение туберкулеза, финансируется нецелевым образом из федерального бюджета и частично из фондов ОМС или местных бюджетов. Тест-системы для диагностики многих заболеваний и препараты для их лечения вообще организованно не закупаются, поэтому на практике высокотехнологичная диагностика и направленное этиотропное лечение дорогостоящими препаратами вирусных, грибковых, бактериальных инфекций, в том числе атипичных микобактериозоз, для пациентов с ВИЧ-инфекцией часто недоступны.
К тому же проблема определения причины смерти ЛЖВ не всегда носит чисто научный характер. Если подходить объективно, то непосредственно ВИЧ-инфекция является прямой причиной смерти лишь ничтожного числа ЛЖВ, в то время как явной причиной всегда являются другие инфекции и опухоли, то есть иные заболевания, развившиеся на фоне вызванного ВИЧ иммунодефицита.
Предметом дискуссии между инфекционистами и патологоанатомами с одной стороны и фтизиатрами – с другой остается вопрос, что ставить первой среди причин смерти больного ВИЧ-инфекцией, умершего, по данным аутопсии, несомненно от туберкулеза: туберкулез или ВИЧ-инфекцию? Учитывая, что предыдущие указы призывали к снижению смертности только от туберкулеза, первой (то есть идущей в статистику) ранее обычно ставилась ВИЧ-инфекция, хотя по крайней мере в 43,6% случаев причиной смерти больных ВИЧ-инфекцией были проявления микобактериальной инфекции (см. статью А.В. Кравченко и соавт.). Если среди умерших инфицированных ВИЧ россиян в 2018 г. микобактериальная инфекция была у 43,6%, то в этом случае никакого снижения смертности от туберкулеза в России не наблюдалось. Из этого следует, что ВИЧ-инфекция еще и срывает усилия по борьбе с туберкулезом: ВИЧ-инфицированные не только часто болеют туберкулезом, но и являются потенциальными источниками лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, что еще более осложняет ситуацию.
С другой стороны, если бы во всех случаях смерти ВИЧ-инфицированных причиной смерти указывались болезни, непосредственно приведшие к смерти, то мы полностью потеряли бы информацию о влиянии ВИЧ-инфекции на демографические процессы. В реальности же проблема заключается только в том, что в статистических отчетах надо выставлять не одну причину смерти, а двойную – «ВИЧ/ТБ», и это значительно улучшило бы контроль за ситуацией с обеими инфекциями и ее понимание общественностью.
Любопытный пример установления посмертного диагноза в зависимости от актуальности проблемы в понимании чиновников приводится в рекомендациях Минздрава по определению причины смерти при короновирусной инфекции:
«Пример 2. Заключительный клинический диагноз: Основное заболевание: COVID-19 с положительным лабораторным текстом. U07.1. Осложнения: левосторонняя долевая пневмония, сепсис, дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболевания: болезнь, вызванная ВИЧ, с туберкулезом и саркомой Капоши. … В данном примере при сочетании COVID-19 с болезнью, вызванной ВИЧ, первоначальной причиной смерти выбирают COVID-19» [6]. Если бы у больного не было выявлено каких-то признаков короновирусной инфекции, первое место среди причин смерти в этом случае заняла бы ВИЧ-инфекция. Отсюда можно предположить, что в недалеком будущем снижение смертности от ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других заболеваний будет достигаться тем, что главной причиной смерти будет выставляться заболевание, про снижение смертности от которого нет упоминаний ни в одном указе, например, внебольничная пневмония. Что же касается «смертности от СПИДа», то снизить ее можно, если не диагностировать СПИД-индикаторные заболевания.
Другие аспекты демографическом ущерба, наносимого ВИЧ-инфекцией, раскрывают публикуемые в этом номере статьи Н.Н. Ладной и соавт., Н.В. Козыриной и соавт., А.В. Покровской и соавт. Так, данные, приведенные в статье Н.В. Козыриной и соавт., указывают на несколько менее известных факторов снижения фертильности у ВИЧ-инфицированных женщин и здоровья их детей: ВИЧ-инфекция провоцирует у детей ВИЧ-инфицированных женщин в 2 раза большую вероятность мертворождений; отмечается тератогенное воздействие на плод самой ВИЧ-инфекции, сопутствующих заболеваний и, возможно, лечебных препаратов; у родившихся живыми детей, в том числе не инфицированных ВИЧ, различные врожденные инфекции развиваются в несколько раз чаще. Серьезной проблемой является и ранняя смертность детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами.
Учитывая тот факт, что в результате продолжающегося распространения ВИЧ (см. статью Н.Н Ладной и соавт.) с диагнозом «ВИЧ-инфекция» живет уже 1,5% населения РФ трудоспособного возраста, причем в возрастной группе наивысшей трудоспособности (30–50 лет) – от 2 до 4%, снижение смертности среди ЛЖВ, находящихся сейчас в трудоспособном возрасте, а также уменьшение среди них числа случаев временной потери трудоспособности, инвалидности и повышение фертильности становятся важной задачей не только в области демографии, но и в сфере экономики.
Как и в случае с посмертным диагнозом правильно организованные подходы к статистике позволяют добиться существенного улучшения показателей эффективности противодействия распространению ВИЧ. Уже больше 30 лет поступающая в Роспотребнадзор оперативная информация о случаях обнаружения ВИЧ-инфекции содержит данные обо всех персонально идентифицированных гражданах, у которых антитела к ВИЧ обнаружены методом иммунного блота, что является самым достоверным общепризнанным свидетельством существования инфицированного ВИЧ россиянина. Однако Минздрав включает ЛЖВ в свою статистику только после их личной явки в медицинское учреждение и заполнения немалого количества документов, содержащих том числе все персональные данные. При отсутствии каких-либо сведений ВИЧ-позитивных можно и не включать ни в списки, ни тем более в регистры ЛЖВ, что позволяет значительно уменьшить число новых случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с данными Роспотребнадзора. Это наиболее эффективная методика по сокращению новых случаев заражения ВИЧ из всех применявшихся в России. С ее помощью Минздраву удалось снизить число новых случаев ВИЧ-инфекции в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сразу на 20%. В последующие годы, однако, этот метод себя исчерпал. Данные Минздрава о новых случаях за 2017 и 2018 гг. уже практически не отличались от показателей 2016 г., и только в 2019 г. отмечено небольшое (на 7,8%) снижение по сравнению с 2016 г. В плане дальнейшего совершенствования этой методики предлагается ориентироваться только на данные регистров российских ЛЖВ, куда они вводятся в электронном виде, однако официальных данных о числе лиц, внесенных в эти регистры, найти не удалось. По сообщениям агентства «Интерфакс» (ИФ), заместитель министра здравоохранения С.А. Краевой в ноябре 2019 г. объявил: «У нас по регистру, когда мы его только начали вести (в начале 2017 года – ИФ), было порядка 830 тысяч, 826 с чем-то тысяч (живущих с ВИЧ – ИФ). Сейчас у нас 808 с чем-то тысяч. То есть идет вычищение регистра» [7].
С помощью этой методики можно увеличивать процент ЛЖВ, получающих АРТ, и т. п. Однако такая «двойная бухгалтерия» сильно искажает понимание ситуации с ВИЧ-инфекцией и организацию борьбы с ней. Какова судьба 170 000 ЛЖВ, которых зарегистрировали в Роспотребнадзоре, но так и не внесли ни в какие медицинские документы? Региональные специалисты утверждают, что найти их не могут, их не существует, по крайней мере, в этом регионе. Может быть, они уехали за границу, превратились в БОМЖей (см. статью З.К. Суворовой и соавт.) или работают в Москве без регистрации, из-за чего ситуация в столице намного хуже, чем хотелось бы? Может быть, эти граждане тихо умерли от неустановленных причин? Если последняя группа значительна, то и число смертей ВИЧ-позитивных жителей в России может быть существенно выше приведенного в статьях Н.Н. Ладной.
Базовой мировой стратегией в борьбе с ВИЧ-инфекцией сейчас считается выявление ЛЖВ с последующим предоставлением им доступа к АРТ, поэтому в России главный способ ранней диагностики ВИЧ-инфекции у ЛЖВ видится в увеличении объемов тестирования населения. С одной стороны, чем шире охват населения обследованием, тем больше и раньше будет выявлено ЛЖВ. Но, с другой стороны, диалектика ситуации требует, чтобы количество и процент выявленных ЛЖВ среди обследованных снижались, так как это должно быть свидетельством эффективности проводимых мероприятий. Некоторое снижение числа выявленных новых случаев ВИЧ-инфекции на фоне увеличивающего числа обследованных в 2019 г. граждан можно было бы трактовать как признак снижения уровня распространения ВИЧ в России. Однако сделать такое умозаключение не позволяют 2 момента. Во-первых, увеличение объемов тестирования достигается в основном за счет расширения тестирования недифференцированных групп населения без очевидного риска инфицирования, но «трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет». Во-вторых, все обнаруженные в предшествующие годы ЛЖВ в статистику выявления текущего года повторно не включаются, в результате полученные данные не отражают ни истинной заболеваемости, ни истинной распространенности ВИЧ в исследуемой группе. Проще говоря, если забрасывать невод в пруд с одного берега, то бóльшую часть рыбы, живущей в этом месте, можно выловить, но вряд ли можно рассчитать, сколько рыбы наплодилось в пруду за год. Резкое снижение числа выявленных ЛЖВ на фоне не снижающихся объемов тестирования мы уже наблюдали в 2002 г., однако это объясняется не прерыванием передачи ВИЧ, а тем, что бóльшая часть ВИЧ-инфицированных наркопотребителей уже была зарегистрирована в предыдущие годы. Это подтверждает дальнейший рост числа случаев ВИЧ-инфекции.
Не менее сложна оценка особенностей и интенсивности эпидемического процесса. К числу новых негативных тенденций в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции в России относится заметное увеличение среди впервые зарегистрированных ЛЖВ процента инфицированных граждан, отрицающих какие-либо другие факторы риска заражения, кроме гетеросексуальных контактов. Это наблюдение следует рассматривать как свидетельство перехода ВИЧ из среды потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в основную популяцию населения, но в то же время рост пропорциональной доли гетеросексуальной передачи обусловлен и тем, что доля обследованных представителей традиционных групп риска сокращается. В результате ЛЖВ, заразившихся при гетеросексуальных контактах, выявляют чаще, чем раньше, и за счет этого они начинают численно преобладать над представителями традиционно уязвимых контингентов. Но это отнюдь не значит, что интенсивность передачи ВИЧ среди ПИН и мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), снижается. Если число новых случаев, выявленных среди ПИН или МСМ, постепенно приближается к показателю заболеваемости, так как многие представители этих групп обследуются регулярно, то число выявленных случаев среди гетеросексуального населения не столь информативно. Так как определяемые при обследовании антитела к ВИЧ обнаруживаются пожизненно и впервые могут быть выявлены по прошествии многих лет жизни с ВИЧ-инфекцией, то для оценки истинной заболеваемости (числа новых случаев заражения за год) необходимо точно знать, что заражение произошло в текущем году. Подробный анализ возможностей определения недавнего заражения приведен в обзоре А.В Мурзаковой и соавт. Широкое использование доступных методов, о которых пишут авторы, должно помочь разобраться в путанице понятий «заболеваемость» и «выявляемость», а также в оценке эффективности применяемых мероприятий.
Если считать, что обследование населения проводится у нас для того, чтобы вовремя предоставить лечение ЛЖВ, то основные достижения и проблемы в этой области, существующие в России, раскрывают в своей статье О.Г. Юрин с соавт. Они отмечают, что процент российских ЛЖВ, получающих АРТ с полным ожидаемым эффектом, постепенно увеличивается, лечение начинают применять более своевременно, но материалы статей этого номера подтверждают, что процент охвата АРТ все еще недостаточен, чтобы заметно снизить число смертей среди ЛЖВ и существенно влиять на уровень передачи ВИЧ. Традиционно дискуссионным остается и вопрос о выборе оптимальных схем лечения, причем сильнейшим аргументом пока остается стоимость препаратов, а не их эффективность и переносимость. В прямой связи с эффективностью и безопасностью лечения находится приверженность пациентов АРТ, которая при ВИЧ-инфекции важна как в терапевтическом аспекте, так и в плане противоэпидемической значимости. Проблемы поддержания приверженности обсуждаются в статье В.В. Беляевой и соавт.
К общему числу проблем, создаваемым ВИЧ-инфекцией, относится постепенное проникновение ВИЧ в регион Центральной Азии и Закавказья, в котором заболеваемость ВИЧ-инфекцией пока сравнительно невысока, но который некоторые зарубежные эксперты рассматривают как потенциальный плацдарм для продолжения пандемии. Учитывая широкие экономические связи России с этими странами, которые сопровождаются массовой трудовой миграцией, России целесообразно предпринимать усилия по предотвращению развития ВИЧ-инфекции в сопредельных странах. В этом направлении действует программа, инициированная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 г. № 2656-р на 2020 г. в рамках международной программы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзор) по проведению совместных научных исследований по изучению инфекционных болезней со странами Восточной Европы и Центральной Азии. Некоторые результаты исследований, выполненных в рамках этой программы, представлены в статьях И.А. Лаповока и соавт. и А.В. Покровской и соавт.
Наиболее успешным направлением противоэпидемических мероприятий в России является предупреждение передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ее ребенку во время беременности, родов и периода грудного вскармливания. Успех этого мероприятия был обеспечен заложенной еще «при Советской власти» системой оказания медицинской помощи беременным, которых, в отличие от других групп населения, легко обнаружить, обследовать на ВИЧ-инфекцию и обеспечить необходимой помощью. Хотя уровень передачи ВИЧ от матери ребенку в этой группе удалось снизить до 1,5%, сама проблема остается актуальной, так как число ВИЧ-инфицированных беременных увеличивается. При этом механизмы дальнейшего снижения уровня передачи ВИЧ от матери ребенку пока не вполне ясны (см. статью Н.В. Козыриной и соавт.)
К сожалению, противоэпидемические мероприятия при ВИЧ-инфекции в России в настоящее время ограничиваются в основном программой «тестируй и лечи», которая при узком смысловом применении не способна подавить эпидемию. О том, что в России еще не все готовы применять относительно новые и давно популярные в развитых странах методы защиты от заражения ВИЧ, называемые доконтактной профилактикой, сообщает статья О.С. Ефремовой и соавт.
Таким образом, содержание материалов этого тематического номера показывает, что за последние 5 лет в России в 1,5 раза выросло число ЛЖВ, при этом основной причиной роста их числа были новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Меры по раннему выявлению ЛЖВ и обеспечению их АРТ пока еще не дали выраженного эффекта по снижению числа новых случаев заражения, смертей инфицированных ВИЧ россиян трудоспособного возраста и уменьшению общего демографического и экономического ущерба. Постоянное увеличение числа ЛЖВ затрудняет расширение охвата их терапией и препятствует повышению качества оказываемой медицинской помощи. Так как все основные проблемы прямо связаны с продолжающимся распространением ВИЧ-инфекции, очевидно, что наибольший вклад в борьбу с заболеванием могли бы внести превентивные мероприятия, которые в России осуществлялись в недостаточном объеме.
Отсутствие реальных успехов обусловлено тем, что в стране пока даже далеко не все эпидемиологи и инфекционисты, не говоря уже о руководителях здравоохранения, понимают, что ВИЧ-инфекция представляет угрозу национальной безопасности в области охраны здоровья населения, хотя это ясно отмечено в «Стратегии развития здравоохранения до 2025 г.». Среди главных задач данный указ выделяет «…профилактику и лечение инфекционных заболеваний, включая такие, распространение которых представляет биологическую угрозу населению (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты B и C)». Оценка состояния национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан осуществляется по таким показателям, как снижение смертности лиц трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста. Подчеркивается необходимость снизить «уровень смертности от туберкулеза (на 100 тыс. человек) и от ВИЧ-инфекции (на 100 тыс. человек)». Правда, конкретные цифры по снижению смертности от ВИЧ-инфекции, которых следует достичь, в этом важном документе не обозначены.
Несмотря на растущую опасность ВИЧ-инфекции и существование нескольких государственных «стратегий», в которых ей отводится место, противодействие ВИЧ-инфекции в России не носит пока столь активного характера, какой был проявлен в отношении COVID-19: создание «оперативного штаба» во главе с Председателем Правительства РФ, постоянные отчеты о работе Президенту РФ и т. п.
Возвращаясь к началу статьи, мы можем сделать вывод о важном отличиии двух инфекций: борьбу с коронавирусом в России можно охарактеризовать близким нашему менталитету понятием «аврал», а борьбу с ВИЧ – модным словом «прокрастинация», которое в толковых словарях трактуется как «постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений, которое приводит к негативным последствиям».