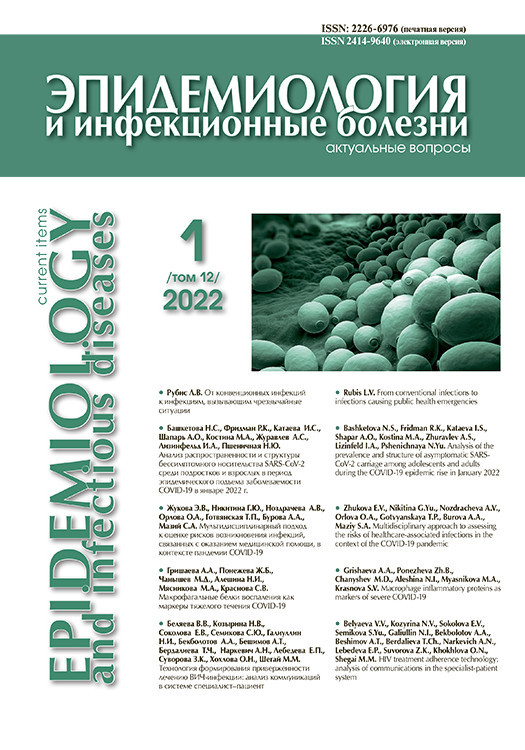Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. По данным Роспотребнадзора, более 1 млн чел. инфицировано ВИЧ. Наиболее пораженными регионами в России являются Кемеровская область (72,2 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Ханты-Мансийский автономный округ (56,4), Томская область (53,4), Пермский край (52,7), Свердловская область (52,0) [1]. Согласно имеющимся данным, в период с 2015 по 2019 г. наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости с 65,20 до 55,65 на 100 тыс. населения [2, 3]. Свердловская область является регионом с высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией (1847,4 случая на 100 тыс. населения [1]).
Заболеваемость хроническим гепатитом С (ХГС) остается в мире стабильно высокой. По данным ВОЗ, в мире ХГС страдает 71 млн чел. [4]. Кроме того, ожидается, что бремя данной инфекции в ближайшее десятилетие только возрастет [5]. В то же время, согласно данным государственного статистического наблюдения, в период с 2015 по 2019 г. в России наблюдается тенденция к снижению регистрации ХГС: в 2015 г. показатель заболеваемости составлял 38,1 на 100 тыс. населения [2], тогда как в 2019 г. – уже 30,9 [3].
В России наиболее распространенными являются генотипы вируса гепатита С (ВГС) 1 и 3 – 52,6 и 39,6% соответственно [6], в Уральском Федеральном округе (УрФО) также доминирует генотип 1 (45,1%), генотип 3 занимает 2-е место по распространенности (41,3%), при этом его доля в УрФО в среднем выше, чем в других регионах России [6].
Согласно данным ВОЗ [7], ВГС-инфекция регистрируется у 2–15% людей, живущих с ВИЧ, при этом до 90% из них составляют потребители инъекционных наркотиков. ВОЗ оценивает общее бремя ВИЧ/ВГС в 2,75 млн чел. по всему миру.
В России ведется учет заболеваемости ХГС с помощью автоматизированной информационной системы «Вирусные гепатиты». Эти данные позволяют оценить распространенность и заболеваемость ГС. В Российской Федерации, по разным данным, уровень распространенности ВГС оценивается 2,91 и 4,1%, что в абсолютных числах составляет 4,2 и 5,9 млн чел. соответственно [8–11]. Пациенты с ВИЧ/ХГС вносят существенный вклад в распространение ХГС в общей популяции, но данные по этой группе часто не включаются в статистику, поэтому величина когорты недооценена [12].
В последние годы в связи с появлением препаратов прямого противовирусного действия (ПППД) произошел существенный прорыв в терапии ХГС. Современные режимы позволяют достигать излечения ХГС более, чем у 95% пациентов. При этом подходы к терапии моно- и коинфицированных пациентов не отличаются. Доступ к ПППД остается ограниченным: на сегодняшний день ПППД в ГБУЗ СО «Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИД» (ОЦ СПИД, Екатеринбург), получают только 1,75% пациентов с ВИЧ/ВГС.
Целью данного исследования было изучение демографических и клинических характеристик пациентов с ВИЧ/ХГС при известном генотипе ВГС.
Материалы и методы
Исследование было проведено на базе клинико-диагностического отделения № 3 ОЦ СПИД. Ретроспективно проанализированы данные пациентов с коинфекцией ВИЧ/ХГС, впервые выявленных и вставших на диспансерный учет в ОЦ СПИД по поводу ВИЧ-инфекции в период с 2016 по 2019 г. За этот период ВИЧ-инфекция была выявлена у 5607 чел., на учет в ОЦ СПИД встал 3881 чел. Из них положительные антитела к ВГС были обнаружены у 1490 пациентов, среди них у 700 были доступны данные по генотипам ВГС.
Для статистической обработки использовали методы описательной статистики, статистические тесты и регрессионный анализ.
Для количественных показателей рассчитывали среднее значение (М), стандартное отклонение (m), 95% ДИ, медиану (Ме), первый (Q1) и третий (Q3) квартили, минимум (min), максимум (max); Для категориальных показателей – частоты и проценты.
Для оценки статистической значимости различий в средних значениях количественных показателей между группами пациентов использовали дисперсионный анализ (ANOVA), для оценки значимости различий в распределениях категориальных переменных (долях отдельных категорий) – критерий χ2. Если число сравниваемых групп пациентов было больше 2, а p-value соответствующей тестовой статистики было меньше 0,05 (5%), то для определения всех пар групп, различия между которыми являются статистически значимыми, проводили парные сравнения (анализ post-hoc): для количественных переменных – с использованием t-критерия, для категориальных – критерия χ2. р-values, полученные в результате множественных парных сравнений, корректировали с помощью поправки Холма.
Для выявления взаимосвязи между различными характеристиками пациентов и показателями плотности печени (кПа) оценивали линейную регрессию (метод наименьших квадратов – МНК), между характеристиками пациентов и степенью фиброза – порядковую логистическую регрессию. В число объясняющих переменных в каждом случае включали следующие показатели: пол, возраст пациента, генотип ВГС, путь передачи, а также количество CD4+-лимфоцитов, вирусная нагрузка (ВН) и АЛТ.
Результаты
В исследование было включено 700 пациентов с коинфекцией ВИЧ/ХГС с доступными данными по генотипу ВГС: 442 (63,1%) мужчины и 258 (36,9%) женщин, средний возраст – 37,5 ± 6,9 года. Большую часть составили пациенты в возрасте 30–39 лет (371 чел., 53,0%) и 40–49 лет (229 чел., 32,7%), таким образом, 85,7% пациентов пришлось на наиболее социально активные возрастные группы. Избыточный вес имел каждый четвертый: у 20,7% индекс массы тела (ИМТ) находился в пределах 25–30 кг/м2, у 4,3% он был более 30 кг/м2. Наиболее распространенными ожидаемо были генотипы 1 и 3: 344/680 (50,6%) и 304/680 (44,7%) соответственно, по 20 пациентам данных предоставлено не было. Доли этих генотипов у пациентов с ВИЧ/ХГС была сопоставима с долей у моноинфицированных ВГС в УрФО (45 и 41% соответственно). При этом у 79 (11,6%) больных был обнаружен субтип 1a, у 217 (31,9%) – 1b, у 251 (36,9%) – 3a, у 1 (0,1%) – 3b. Доля комбинированных генотипов составила 2,8% (рис. 1), при этом наиболее распространенными стали случаи коинфекции комбинированными генотипами 1a + 1b (14 чел., 2,1%), 1a + 3a (7 чел., 1,0%) и 1b + 3a (6 чел., 0,9%). Не было обнаружено различий в путях инфицирования ВИЧ в зависимости от генотипа ВГС (рис. 2).

По данным литературы, генотип 3 преобладает в Южной и Юго-Восточной Азии и в странах Европы с высоким уровнем распространения потребления инъекционных наркотиков [13]. В исследуемой когорте парентеральный путь передачи ВИЧ был зарегистрирован у 58% пациентов. Но мы не выявили значимого преобладания этого генотипа при парентеральном пути заражения ВИЧ.
Однако у пациентов с комбинацией генотипов ВГС различия все же были. В этой группе преобладал наркотический путь передачи ВИЧ-инфекции, за исключением пациентов с субтипами 1b + 2 (0,8% случаев против 0,3%) и 2 + 3a (0,4% против 0%). Так, пациенты с субтипами 1a + 1b были инфицированы ВИЧ вследствие гетеросексуального полового контакта реже (0,8%), чем вследствие употребления инъекционных наркотиков (3,1%). Аналогичная тенденция прослеживалась и для пациентов с субтипами 1a + 3a (0,4% против 1,5%) и 1b + 3a (0,4% против 1,3%).
У 77,6% пациентов была 3 стадия ВИЧ-инфекции, доля пациентов со стадиями 4А, 4Б или 4В составила 21,5%.
Количество CD4+-лимфоцитов у 80% пациентов было > 200 клеток/мкл: 200–350 клеток/мкл – у 23,7%, 350–500 – у 23,2%, > 500 – у 33,1%. Однако у 14,4% пациентов количество CD4+-лимфоцитов было < 200 клеток/мкл, а у 5,6% – < 50.
ВН ВИЧ составила < 100 000 копий/мл у 494 (70,6%) пациентов, > 100 000 копий/мл – у 202 (29,0%), по 4 пациентам не было предоставлено данных. Основным путем инфицирования ВИЧ было заражение при употреблении психоактивных веществ (ПАВ) (58%), вторым по распространенности стали гетеросексуальные контакты (37%), что отличает исследуемую когорту от российских показателей, где половой путь передачи имеет большую долю по сравнению с заражением при употреблении ПАВ [1]. У 5% пациентов путь инфицирования не был установлен. Отсутствовали случаи инфицирования при гомосексуальных контактах.

Данные транзиентной эластографии были доступны по 302 пациентам. Среди них 84,6% составили пациенты со стадиями F0–F2, доля пациентов с продвинутыми стадиями фиброза (F3–F4) составила 15,4%: F3 была зарегистрирована у 6,2%, F4 – у 9,2% (рис. 3). Доля пациентов со стадиями F3 и F4 увеличивалась с возрастом: среди лиц 30–39 лет она составила 13,4%, 40–49 лет – 20,5%, а в группе 50–59 лет – 36,4% (табл. 1).

Статистически значимыми были отличия между группами 30–39, 40–49 и 50–69 лет. Плотность печени (кПа) была значимо выше в более старших группах по сравнению с первой. Доля пациентов с фиброзом F3 и F4 была выше среди мужчин, чем среди женщин – 18,3 и 13,1% соответственно. Согласно данным линейного регрессионного анализа, с увеличением возраста на 1 год шансы увеличения степени фиброза в среднем возрастают в 1,051 (1,010–1,095) раза при прочих равных условиях; среди пациентов 40 лет и старше шансы на более высокую степень фиброза в 1,962 (1,193–3,237) раза выше, чем среди пациентов моложе 40 лет при прочих равных условиях (табл. 2).

Среднее значение плотности печени (кПа) возрастало с увеличением ИМТ от 6,7 кПа при ИМТ < 8,5 кг/м2 до 11 при ИМТ > 30 кг/м2.
Средние значения плотности печени были достоверно существенно выше у пациентов с генотипом 3, чем у пациентов с генотипом 1 (p < 0,001). При этом доля пациентов со стадиями фиброза F3 и F4 составила соответственно 23,2 и 9,5%. Плотность печени у пациентов с генотипом 1 в среднем была на 3,358 (5,245–1,470) кПа меньше, чем у пациентов с каким-либо другим генотипом при прочих равных условиях (пол, возраст, путь передачи ВИЧ, количество CD4+-лимфоцитов, ВН, уровень АЛТ). Значимыми также были отличия показателей плотности печени между группами пациентов с количеством CD4+-лимфоцитов < 50 и > 500 клеток/мкл (p = 0,034). Доля пациентов со стадиями фиброза F3 и F4 нарастала по мере увеличения иммунодефицита: у пациентов с количеством CD4+-лимфоцитов < 50 клеток/мкл она составила 33,3%, а у пациентов с количеством CD4+-лимфоцитов > 500 – 9,8%. Средние значения плотности печени были выше у пациентов с количеством CD4+-лимфоцитов < 50 и 50–200 клеток/мкл (10,0 и 11,6 кПа соответственно) по сравнению с теми, у кого количество CD4+-лимфоцитов составляло 200–350 и 350–500 клеток/мкл (8,2 и 9,5 соответственно). Доля пациентов с фиброзом F3 и F4 была выше при ВН ВИЧ > 100 000 копий/мл, чем при ВН < 100 000 копий/мл (26 и 11,3% соответственно). Различия являлись статистически значимыми и возникали потому, что среди пациентов с высокой ВН было существенно больше больных со стадией фиброза F4 и существенно меньше пациентов без цирроза, чем среди пациентов с более низкой ВН. При прочих равных условиях в среднем у пациентов с ВН ≥ 100 000 копий/мл плотность печени была на 4,397 (2,225–6,569) кПа больше, чем у пациентов с более низкой ВН, и шанс иметь более высокую степень фиброза – в 2,044 (1,147–3.648) раза выше.
При сравнении лабораторных показателей выявлены повышенные значения АСТ и АЛТ у 62,9 и 64,7% пациентов соответственно, средние значения печеночных ферментов составили 69,0 ± 72,3 Ед/л (при норме 0–38 Ед/л) и 82,0 ± 86,3 Ед/л (при норме 0–40 Ед/л) соответственно. Средние значения уровня АЛТ были выше у пациентов с фиброзом F2–F4, при этом среди больных со стадией фиброза F3 они составляли 82,4%. У пациентов с показателем АЛТ 55 Ед/л и выше плотность печени была на 2,655 (0,793–4,518) кПа больше, чем у пациентов с более низкими значениями АЛТ. Уровень печеночных ферментов >150 Ед/л может искажать результаты транзиентной эластографии.
Похожая тенденция прослеживалась и для АСТ: доля пациентов с повышенным уровнем фермента при стадии фиброза F3 составила 94,1%, при F4 – 81,5%.
Важно отметить, что результаты научных исследований свидетельствуют об отсутствии корреляции между повышением печеночных трансаминаз и выраженностью органических изменений печени [14]. Так, нормальный уровень АЛТ наблюдался у 23% пациентов без фиброза, у 26% – со стадией F1, у 39% – со стадией F2, у 6% – со стадией F3 и у 6% пациентов с циррозом [15]. В то же время повышенный уровень АЛТ отмечен у 16% пациентов без фиброза, у 20% – со стадией F1, у 33% – со стадией F2, у 13% – cо стадией F3 и у18% пациентов с циррозом [16]. В когорте пациентов с ВИЧ/ХГС повышение уровней трансаминаз мы наблюдали значительно чаще, чем среди моноинфицированных ВГС, что может быть обусловлено наличием других факторов, способствующих поражению печени, таких как алкогольная и наркотическая зависимость.
У 10,2% пациентов уровень общего билирубина был повышен: среднее значение составило 13,0 ± 9,3 мкмоль/л (при норме 0–21 мкмоль/л). Также примерно у каждого 10-го пациента (10,9%) отмечен повышенный уровень холестерина: средний показатель – 4,1 ± 1,0 ммоль/л (при норме 0,3–5,3 ммоль/л). У 1,9% пациентов был повышен уровень креатинина, у 1,6% – понижен показатель общего белка. Повышенный уровень глюкозы, пониженные показатели эритроцитов и гемоглобина наблюдались у 13,0, 10,5 и 10,1% пациентов соответственно. Лейкопения встречалась в 14,8% случаев, тромбоцитопения – у 38,9%. В целом расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) у большинства пациентов превышала 90 мл/мин, в среднем – 104,1 ± 26,5 мл/мин. При этом среднее значение рСКФ с возрастом уменьшалось от 124,7 мл/мин у пациентов моложе 20 лет до 64,5 мл/мин у пациентов в возрасте 60–69 лет. В исследуемой группе не было пациентов с исходным показателем рСКФ < 30 мл/мин. Среднее значение рСКФ у женщин было достоверно ниже, чем у мужчин: 109,6 и 93,6 мл/мин соответственно (р < 0,001).
83,8% пациентов получили АРТ при постановке на учет в ОЦ СПИД. Большинству из них, в качестве третьего компонента в схемах АРТ назначали препараты группы ННИОТ (352/587, 60%), ИП (216/587, 37%) или ИИ (19/587, 3%).
Хотя бы 1 вторичное или сопутствующее заболевание имели 99% пациентов, в среднем на 1 пациента их приходилось 2,2 ± 1,4 (см. табл. 3). Чаще всего они относились к группам L (Болезни кожи и подкожной клетчатки – 24.4%.), K (Болезни органов пищеварения – 22.1%,) и Z (Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения – 21.0%,) согласно МКБ-10. Достоверная разница наблюдалась в частоте встречаемости заболеваний органов дыхания в возрастной группе 30–39 лет по сравнению с группой 50–69 лет (р = 0,011). Заболевания мочеполовой системы достоверно реже встречались в группе пациентов моложе 30 лет по сравнению с группой 30–39 лет (р = 0,021) и в группе 30–39 лет по сравнению с группой 50–69 лет (р = 0,005). Согласно результатам статистических тестов, различия между возрастными группами по уровню рСКФ могут считаться статистически значимыми. Парные тесты говорят о том, что значимыми являются различия между всеми парами групп, кроме лиц моложе 30 лет и 30–39 лет: в среднем, рСКФ с возрастом убывает.
Среди вторичных по отношению к ВИЧ-инфекции заболеваний был зарегистрирован только туберкулез, диагностированный у 50 (7,1%) пациентов. При этом распространенность туберкулеза с возрастом увеличивалась: в группе пациентов 20–29 лет она составила 6,1%, 30–39 лет – 6,7%, 40–49 лет – 7,9%, 50–59 лет – 13,0%.
Обсуждение
Полученные результаты сравнивали с доступными в литературе данными [17, 18]. Ранняя диагностика ХГС с генотипированием в условиях ограниченных ресурсов остается актуальной для правильного планирования и индивидуального подхода к лечению. Роль генотипирования может быть снижена при более широкой повсеместной доступности пангенотипных режимов ПППД. Элиминация ХГС в популяции лиц, живущих с ВИЧ, представляется важным шагом на пути достижения глобальных целей ВОЗ по обеспечению контроля за вирусными гепатитами к 2030 г.
Проведенный нами анализ клинических характеристик пациентов с ВИЧ/ВГС показал сходство с данными моноинфицированных в отношении наиболее пораженных возрастных групп и распределения по генотипам ВГС. В то же время доля пациентов с фиброзом F3 и F4 в группе коинфицированных была меньше (15%) по сравнению с моноинфицированными (24,5%) с небольшим преобладанием наркотического пути инфицирования ВИЧ, а при комбинированных генотипах ВГС это преобладание было более выражено.
В соответствии с рекомендациями по ведению пациентов с ВИЧ-инфекцией, всем лицам с данным заболеванием должен быть проведен скрининг на ВГС-инфекцию, а все больные с выявленным ХГС должны получать терапию. На сегодняшний день международные рекомендации не делают различий в подходах к терапии моно- и коинфицированных ВИЧ/ВГС пациентов [19].
При лечении пациентов с ВИЧ/ХГС необходимо учитывать несколько дополнительных факторов:
- меньшую эффективность лечения ХГС при низком количестве CD4+-лимфоцитов (при использовании ПегИФН и рибавирина) [20];
- гепатотоксичность ряда антиретровирусных препаратов [20];
- возможные лекарственные взаимодействия антиретровирусных препаратов с препаратами, применяемыми для лечения ХГС [20].
В плане межлекарственных взаимодействий следует обращать внимание на возможность совместного применения препаратов противовирусной терапии (ПВТ) ХГС и АРТ. Современные подходы к лечению ХГС включают использование ПППД. В исследуемой когорте доля пациентов, принимающих ИП в качестве третьего препарата, составила 37%, а ННИОТ – 60%. При этом для проведения ПВТ ХГС с использованием ПППД потребуется смена режима АРТ с ИП на ИИ при использовании режимов ПВТ ХГС на основе ИП. Таким образом, у 37% пациентов потребуется коррекции АРТ на период терапии ХГС. В связи с этим требуется увеличить долю ИИ в составе режимов АРТ.
99% пациентов с ВИЧ/ХГС имели хотя бы одно сопутствующее заболевание, при этом в среднем 1 пациент имел 2 сопутствующих заболевания. Наблюдался рост доли туберкулеза в более старших возрастных группах. Этот факт говорит о необходимости правильной оценки межлекарственных взаимодействий в отношении не только антиретровирусных препаратов, но и препаратов других классов, применяемых в ПВТ ХГС, гипотензивных, противосудорожных, сахароснижающих и т. д.
Согласно клиническим рекомендациям [20], при наличии выраженного фиброза печени (> F3) и высокой степени активности гепатита С следует рассмотреть возможность проведения терапии ХГС с помощью только ПППД. В нашем исследовании доля таких пациентов составила 15%.
Заключение
В результате проведенного исследования не было обнаружено значимых отличий между пациентами, коинфицированными ВИЧ/ХГС и моноинфицированными ВГС, по распределению генотипов ВГС и частоте встречаемости ХГС в разных возрастных группах. Однако когорта впервые выявленных пациентов с ВИЧ/ХГС имеет свои особенности. Это:
- меньшая доля пациентов с продвинутыми стадиями фиброза (F3 и F4) по сравнению с когортой моноинфицированных – 15 и 24% соответственно [1]);
- наличие пациентов с нарушениями иммунного статуса исходно (29,8% пациентов с количеством CD4+-лимфоцитов < 350 клеток/мкл);
- наличие сопутствующих заболеваний, в том числе туберкулеза;
- высокая активность трансаминаз;
- большая доля потребителей инъекционных наркотиков (48%), которые могут оказывать влияние на сроки начала терапии ХГС и выбор режима ПВТ.
Практически все пациенты имели хотя бы одно сопутствующее заболевание, что требует тщательной оценки риска межлекарственных взаимодействий до начала ПВТ ХГС. 47,7% пациентов в исследуемой группе имели опыт потребления наркотиков, что может повлиять на их приверженность терапии. Поэтому предпочтение должно отдаваться применению режимов для лечения ХГС «1 таблетка 1 раз в сутки» с высокой эффективностью (не менее 95%) и благоприятным профилем безопасности. Неотложное лечение ХГС может быть показано 35,1% пациентов со стадиями F2–F4 [17 18]. Полученные результаты говорят о том, что доля пациентов, получающих современные режимы ПВТ ХГС на основе ПППД, должна быть увеличена. Лечение должно быть не только эффективным, безопасным, но и своевременным для уменьшения бремени коинфекции ВИЧ/ВГС.