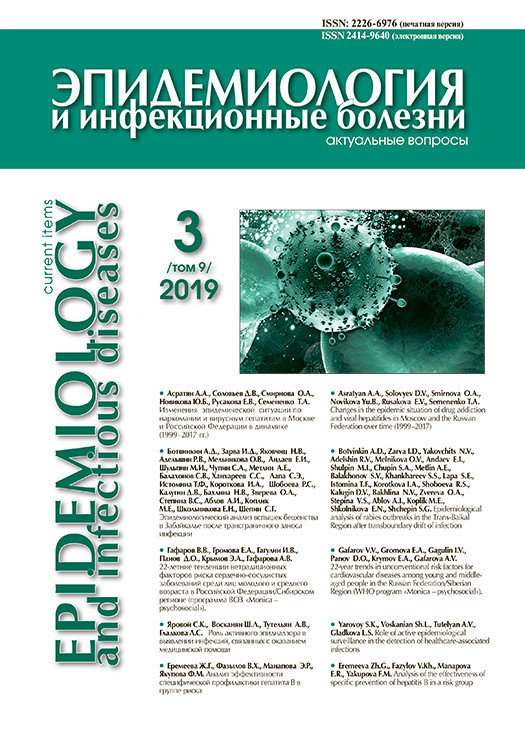В последней четвери XIX века вслед за бактериологическими открытиями в медицинской науке произошли изменения в трех основных областях медицинских знаний: медико-биологической, клинической и профилактической. Этот процесс завершился формированием новых медицинских наук, таких как микробиология, клиника инфекционных болезней и эпидемиология. Появление эпидемиологии как самостоятельной дисциплины и профессиональной деятельности, а также создание первых эпидемиологических школ связывают с трудами Д.К. Заболотного (1866–1929), Л.В. Громашевского (1887–1980), В.А. Башенина (1882–1978), Е.Н. Павловского (1884–1966). Авторитетное мнение российских ученых оказалось решающим в признании самостоятельной области медицинских знаний, непосредственно связанной с практикой противоэпидемических мероприятий.
К плеяде российских эпидемиологов, профессиональная деятельность которых совпала с периодом бактериологических открытий и становлением отечественной эпидемиологии, относится Н.Н. Клодницкий (1868–1939), который был одновременно эпидемиологом, микробиологом и инфекционистом, что позволило ему внести ценный вклад в научный прогресс.
Более 45 лет Н.Н. Клодницкий занимался вопросами инфекционной патологии. Уже в студенческие годы он был командирован на вспышку сыпного тифа в Саратовскую губернию, где затем работал в качестве земского врача. После окончания Военно-медицинской академии в 1895 г. Н.Н. Клодницкий служил в должности младшего врача полка в г. Ковеле. Спустя 5 лет вернулся в Петербург и приступил к научной работе в лаборатории И.П. Павлова, где выполнил докторскую диссертацию и после ее защиты в 1902 г. был удостоен степени доктора медицины. В 1903 г. работал в Париже в Пастеровском институте у И.И. Мечникова и во Франкфурте-на-Майне у П. Эрлиха. Начавшаяся русско-японская война заставила его прервать научную работу и заняться практической деятельностью. В 1904–1905 гг. Н.Н. Клодницкий работал заведующим бактериологической лабораторией и заразными бараками Центральной железнодорожной больницы Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в Харбине. В период с 1906 по 1914 г. Н.Н. Клодницкий заведовал противочумной лабораторией в Астрахани. Вскоре он получил звание приват-доцента при Военно-медицинской академии (1912). Во время Первой мировой войны (1914–1917) работал на фронте начальником санитарно-гигиенического отряда, а потом в госпиталях Полтавы, Гельсингфорса, где его застала февральская революция 1917 г. После возвращения в Петроград Н.Н. Клодницкий работал в клинике инфекционных болезней Военно-медицинской академии. В 1921 г. был избран профессором кафедры инфекционных болезней Ташкентского медицинского института. В 1924 г. Н.Н. Клодницкий перешел на работу в Бакинский бактериологический институт заведующим серологическим отделением. С 1925 по 1932 гг. состоял профессором микробиологии в Иркутском медицинском институте и одновременно занимал должность директора Иркутского бактериологического института, уделяя много внимания организации противочумной лаборатории. В 1932 г. Н.Н. Клодницкий был избран заведующим кафедрой эпидемиологии санитарно-гигиенического факультета 1-го Московского государственного медицинского института и на этом посту оставался до конца жизни.
Профессиональная деятельность Н.Н. Клодницкого совпала с периодом активизации природных очагов чумы в Северном Прикаспии, Поволжье, Монголии, Северном Китае и Забайкалье, поэтому наиболее значимые труды ученого посвящены изучению этой актуальной проблемы.
Первые оригинальные работы, посвященные чуме, были написаны Н.Н. Клодницким по итогам работы в медицинских организациях КВЖД. Здесь он впервые принял участие в расследовании и ликвидации вспышки этого заболевания на Джалайнорских копях. Молодому врачу удалось не только поставить этиологический диагноз, но и принять участие в научной экспедиции с целью установления причинно-следственной связи между эпизоотией среди сурков-тарбаганов и заболеванием чумой людей в приграничных районах. Несмотря на то что участникам экспедиции не удалось найти больных грызунов в природных стациях, они отмечали угрозу возникновения новых эпидемических очагов, поскольку «сурочья болезнь», по словам местных жителей, была опасна и для людей.
Важно отметить, что связь заболеваний чумой с грызунами была подмечена исследователями Забайкалья задолго до описанных событий. Впервые на болезнь людей, связанную с заражением от сурков в Забайкалье, указал А. Черкасов (1884). Он писал, что забайкальское коренное население употребляет летом в большом количестве мясо тарбаганов. Однако в некоторые годы местные жители перестают есть мясо тарбаганов, потому что у грызунов возникает болезнь, от которой эти животные погибают. Врачами М. Беляевским (1895) и А. Решетниковым (1895) были опубликованы материалы с подробным описанием эпидемий в результате контакта людей с больными грызунами. Авторы подчеркивали легкость заражения людей при употреблении в пищу мяса больных животных, высокую смертность и подробно описывали признаки больных сурков, позволяющие их отличать от здоровых зверьков. Позднее видные российские ученые Д.К. Заболотный (1899), Ю.Д. Талько-Грынцевич (1900) собрали ценные сведения о чуме в Маньчжурии, Монголии и Забайкалье, а в 1911 г. группой Д.К. Заболотного был выделен возбудитель чумы от больного сурка-тарбагана, пойманного в окрестностях Шарасуна.
В 1906 г. Н.Н. Клодницкий приступил к заведованию Астраханской противочумной бактериологической лаборатории, на базе которой он начал изучать роль диких грызунов, верблюдов и насекомых в возникновении и распространении местной чумы, а также собирать доказательства в пользу ее эндемичности.
Местоположение Астрахани на перекрестке сухопутных и водных дорог превращало город в своеобразные ворота, через которые из стран Азии время от времени в Россию врывались опустошительные болезни. С конца XIX в. Астраханский край становится ареной почти ежегодных эпидемий чумы, которую традиционно рассматривали как завозную инфекцию. Возникшая опасность распространения чумы из приграничных районов в центральную часть России побудило правительство принять решение об открытии в Астрахани противочумной бактериологической лаборатории, которая начала свою работу 27 декабря 1901 г.
Это первое специализированное противочумное учреждение, созданное на юго-востоке России, относилось к управлению Главного врачебного инспектора Министерства внутренних дел. Основными задачами лаборатории были установление этиологического диагноза заболевания у больных и у лиц с подозрением на инфекционную патологию, а также изучение санитарно-эпидемиологических условий края путем проведения бактериологических исследований. Первым заведующим лабораторией был известный деятель русской медицины С.В. Констансов.
На момент вступления Н.Н. Клодницкого в должность руководителя Астраханской бактериологической лаборатории финансирование нового учреждения было скромным, штат – малочисленным. По штатному расписанию имелись должности заведующего лабораторией, помощника заведующего, фельдшера и двух санитаров. Помощниками Н.Н. Клодницкого в первые годы были В.И. Иорданский (1907–1909) и И.А. Деминский (1910–1912).
Ввиду того, что Астраханская губерния занимала значительную территорию на юго-востоке Европейской части России (с севера на юг — до 550 верст, и с запада на восток — до 500 верст), все сотрудники бактериологической лаборатории, включая руководителя, большую часть времени проводили в полевых условиях. При появлении заболеваний они выезжали на удаленные врачебные участки, к местам кочевок, а также в эпидемические очаги, разбросанные по киргизской степи.
«Киргизские степи, – писал Н.Н. Клодницкий, – не оправдывают своего названия, в большей своей части – это песчаная пустыня с редкой флорой. Можно проехать 30–40 верст, не встретив ни одного жилья: кругом песок, барханы (холмы наносного песку), редкие кустики киака (песчаный овес) и колючки – неприхотливый корм верблюдов» [1].
Природные особенности Астраханского края, особые условия жизни малых народов, населяющих юго-восток России, а также недостатки организации медицинской помощи и финансирование по негласному правилу «чем меньше, тем лучше» затрудняли оперативную работу и проведение противоэпидемических мероприятий. В Астраханской губернии в период с 1899 по 1914 г. была зарегистрирована 81 вспышка чумы с 1931 случаями заболевания и 1779 случаями смерти.
Негативно сказывалось на практической работе отсутствие единой научной концепции о причинах появления частых вспышек чумы в Астраханском крае. Попытки объяснить природу этих явлений в конце концов позволили сформулировать несколько гипотез. Высказывалось предположение о том, что среди местных жителей встречаются так называемые «амбулаторные формы» болезни, то есть легкие заболевания, не приводящие к летальным исходам, поэтому больные остаются невыявленными и разносят инфекцию по степи. Выдвигалась версия о заносе чумы паломниками – киргизами из Мекки и Медины, калмыками из Монголии.
Наибольшего внимания заслуживала гипотеза об эндемическом характере чумы, которую авторы связывали с представителями местной фауны. Впервые указал на «эндемичность» астраханской чумы опытный врач и исследователь В.И. Исаев в докладе Противочумной Комиссии в 1901 г. (Комиссии о мерах предупреждения и борьбы с чумной заразою, созданная в Петербурге в 1897 г., сокращенное название – КОМОЧУМ). Известный российский исследователь И.В. Страхович также придерживался мнения о ее эндемическом характере (1907). На эндемический характер чумы указывал один из передовых врачей Астраханского края И.А. Деминский (1910).
Горячо отстаивал идею эндемичности астраханской чумы Н.Н. Клодницкий (1910): «… мне кажется ясно, что мы должны отказаться от предположения, что чума могла быть занесена в Астраханскую губернию в период около 1879 г. и продолжает заноситься и позже. Когда осуществился первоначальный занос, во время Ветлянской чумы или, может быть раньше, собственно говоря, теперь представляет академический и очень трудно разрешимый вопрос. Важно то, что чума осела в Астраханских степях и может давать время от времени отдельные вспышки, распространение которых легко прекращается своевременно и рационально проведенными мерами. Иначе говоря, в наших степях чума приобрела эндемический характер» [2].
Необходимо отметить, что в начале XX века в понятие «эндемичности» чумы вкладывалось не то содержание, которое используется сегодня применительно к теории природной очаговости чумы. Считалось, что заболевание было когда–то занесено в Астраханский край и с тех пор «гнездилась» там, став «эндемической болезнью». Расшифровка этого явления было дана позднее (1939) в свете учения Е.Н. Павловского и его последователей.
Для установления истинных причин появления чумы в Астраханской губернии нужны были специальные исследования. Первое исследование с целью установления роли грызунов в эпидемиологии чумы было проведено в 1899 г. во время эпидемии в селе Колобовка. Прибывший из Петербурга магистр ветеринарных наук М.Г. Тартаковский на основании вскрытия и прижизненного исследования более 4000 грызунов и других животных пришел к заключению, что так называемое «подпольное и степное население» Колобовки по чуме было благополучно. Правительственная комиссия, состоящая из представителей КОМОЧУМ, по прибытии в Колобовку склонилась к мнению, что эпидемия была «заносной».
В 1900 г. была организована еще одна экспедиция. По распоряжению КОМОЧУМ с целью выявления больных «амбулаторными формами» чумы было проведено массовое медицинское обследования населения киргизкой степи. Однако несмотря на почти поголовное медицинское обследование (384 000 человек) «амбулаторные формы» чумы среди местного населения так и не были обнаружены.
Несмотря на огромные усилия, прилагаемые медицинскими работниками Астраханского края для борьбы с инфекцией, частые вспышки чумы продолжали регистрироваться. По этой причине дискуссия о природных источниках чумы стала разгораться с новой силой. К этому времени уже было известно, что эпидемия чумы может сопровождаться эпизоотиями на грызунах. Английская комиссия в 1907 г. сделала вывод о том, что крысы являются источниками инфекции при чуме, а блохи – переносчиками чумных бактерий. Н.Ф. Гамалея во время эпидемии чумы в Одессе (1902) высказал мнение о распространении чумы с участием трех факторов: человека, крыс и блох. Д.К. Заболотным бактериологическим методом была подтверждена бубонная и легочная чума в Восточной Монголии, причину которой он связал с заболеваемостью сурков-тарбаганов.
В связи с появлением новых знаний о природе чумы Н.Н. Клодницкий предложил начать систематическую работу по изучению роли диких грызунов в эпидемиологии астраханской чумы. Вопрос был рассмотрен и занесен в решение Астраханского противочумного съезда (1910), на котором Н.Н. Клодницкий выступил с докладами «Об эндемическом характере астраханской чумы», «К организации противочумных мероприятий» и «Обеззараживание чумных очагов в киргизской степи».
«Данных … достаточно, – утверждал Н.Н. Клодницкий, – чтобы признать весьма вероятным и для Астраханской губернии сохранение чумной заразы в грызунах, даже больше – передачу ее через их посредство людям».
Участников съезда поддержал И.И. Мечников, который прибыл в мае 1911 г. в Астрахань в составе международной экспедиции для изучения проблем, связанных с распространением чумы и туберкулеза в регионе. Знаменитый ученый живо заинтересовался работами Астраханской бактериологической лаборатории, в которой работал его ученик, и некоторое время вел активную переписку с Н.Н. Клодницким.
При поддержке И.И. Мечникова был создан специальный отряд под руководством Н.Н. Клодницкого, который проделал большую полевую работу. В частности, удалость установить, что основными видами грызунов в низовьях Волги являются суслики и тушканчики. Пойманных грызунов определенное время содержали в неволе в расчете на то, что среди них находятся инфицированные зверьки, и они заболеют в неблагоприятных условиях. Однако больных животных среди них обнаружить так и не удалось. Вместе с тем было показано, что суслики имеют высокую восприимчивость к экспериментальному заражению чумой, что уже само по себе заслуживало внимания, поскольку наличие чувствительных к заражению животных указывало на возможность сохранения возбудителя в популяциях диких грызунов.
Позднее Н.Н. Клодницкому удалось выявить заболевших грызунов в естественных условиях: «Мне удалось установить в 1912 г. наличие спонтанной чумы у своеобразного, сравнительно крупного желтого, или песочного суслика – Citellus fulvus» [3]. Ученый указывал на то, что желтые суслики болеют преимущественно осенью, и не исключал передачи возбудителя инфекции людям через блох, которые паразитируют на этих крупных грызунах.
После появления публикаций о роли кровососущих насекомых в эпидемиологии чумы Н.Н. Клодницкий приступил к изучению способности сохранения заразного начала в организме насекомых. В качестве объекта исследования были выбраны обыкновенные клопы, что не умоляет научной ценности проделанной работы.
«Так как эпидемиологические факты не противоречат возможному значению клопов, а напротив даже как будто подтверждают его – о чем будет сказано ниже – то мы остановили наш выбор именно на этих паразитах, тем более что они менее всего изучены» – писал Н.Н. Клодницкий [4]. Совместно с В.И. Иорданским ему удалось показать, что в организме насекомых происходит интенсивное размножение чумных бактерии, которое достигает максимума на пятый день после сосания крови зараженных чумой животных, без утраты вирулентности.
При изучении эпидемиологии чумы в Астраханском крае был установлен еще один важный научный факт. Анализируя проявления летних и зимних вспышек чумы, Н.Н. Клодницкий обратил внимание на то, что зимние вспышки, как правило, были связаны с употреблением мяса больных верблюдов. Со слов местных жителей, у верблюдов наблюдалось заболевание, которое киргизы называли «кара-укпе» (черное легкое). Ученый высказал предположение, что эти крупные животные также болеют чумой, поэтому он предложил врачам извещать в своих докладах о случаях совпадения чумы у людей с употреблением мяса верблюдов. В 1911 г. И.А. Деминским и Н.Н. Клодницким впервые были получены культуры возбудителя от верблюдов. Добытые материалы направили для проверки в «Чумной форт» Д.К. Заболотному и в Пастеровский институт И.И. Мечникову, которые подтвердили их правоту.
В дальнейшем комиссия, созданная для углубленного изучения этого факта, пришла к заключению: «При естественных условиях у верблюдов наблюдаются заболевания, обусловленные микробом бубонной чумы» и «Наблюдения, полученные во время последних эпидемий в Астраханской киргизской степи, указывают на то, что верблюды могут передавать чуму людям» [5].
Несмотря на то что с 90-х годов XIX века шла напряженная борьба с чумой, вспышки этого опасного заболевания в Астраханской губернии возникали все чаще. В 1912 г. в связи с распространением чумы на селения, расположенные на Волге, было отпущено дополнительное финансирование для научно-исследовательской и противоэпидемической работы. К очагам инфекции направились специальные отряды под руководством опытных врачей. В хутор Романенко был направлен отряд И.А. Бердникова, в район станции Джаныбек – Н.Н. Клодницкого, к слободе Рахинка – И.А. Деминского. На хуторах развернули полевые бактериологические лаборатории. Так как в отдельных районах губернии заболеванию чумой людей предшествовала массовая гибель сусликов, были созданы специальные отряды для отлова грызунов. За полтора месяца (с 1 сентября по 14 ноября) отряды прошли 400 кв. верст и обследовали 6820 нор.
Последовательная научно-практическая работа, наконец, принесла результаты. В октябре 1912 г. И.А. Деминский из органов доставленного в лабораторию суслика выделил чумную культуру.
«В нынешнем году вскоре после вспышки чумы на хуторе Романенко и в с. Рахинка И.А. Деминскому удалось установить спонтанное заболевание чумой сусликов, – писал Н.Н. Клодницкий, – этот факт большого эпидемиологического значения, к сожалению, достался слишком дорогой ценой, так как сам экспериментатор И.А. Деминский заразился во время работы и погиб от легочной чумы» [6].
Трагическая смерть И.А. Деминского явилась прямым доказательством эпидемиологической роли сусликов в распространении инфекции и первым подтверждением существования эндемического очага чумы в Европейской части России.
Принимая во внимание значимость проблемы, в районе постоянных эпидемий в 1912–1914 гг. было организовано еще 6 лабораторий: в Ханской ставке (Астраханская губерния), Новой Казанке (Уральская область), Царицыне, Новоузенске, затем в Александрове-Гае (Самарская губерния), Джамбейте (Уральская область). Впоследствии в 1914–1915 гг. прибавилось еще 2 лаборатории – в Заветном и Владимировке (Астраханская губерния). Широкая сеть противочумных организаций дала возможность большому числу ученых включиться в изучение природной очаговости чумы, у истоков которой стояли такие выдающиеся деятели отечественной науки, как Д.К. Заболотный, И.А. Деминскиий, Н.Н. Клодницкий и другие. Период поиска ответа на вопрос о происхождении чумы на юго-востоке России сменился периодом изучения эпизоотий на грызунах и поиском эффективных мер борьбы с этим опасным заболеванием.