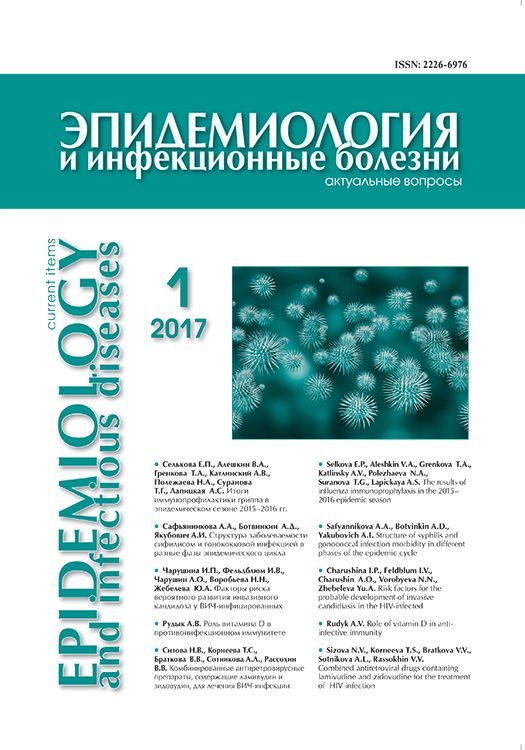Изучая современную отечественную эпидемиологию, мы все чаще уделяем внимание истории её становления и развития. Исторический метод, который при этом используется как способ осмысления прошлых событий, современной науки и вероятного её будущего, позволяет понять, что между периодами развития эпидемиологии существует преемственность, а каждый период надо оценивать с точки зрения его исторических особенностей и возможностей. Периодизация исторического материала позволяет сгруппировать историографические факты и обнаружить решающее направление развития научной мысли на каждом из этапов развития науки.
В XVIII в. в России появилась и стала быстро развиваться научная медицина. Большую роль в этом сыграли воспитанники российских госпитальных школ, которые энергично боролись с эпидемиями чумы, оспы, другими эпидемическими болезнями.
Изучение трудов выпускников российских госпитальных школ, написанных по следам борьбы с эпидемическими болезнями, дает все основания полагать, что научная эпидемиология как неотъемлема часть научной медицины стала формироваться в России во второй половине ХVIII в. Её появлению предшествовало постепенное накопление эпидемиологических знаний, а окончательное оформление в самостоятельную отрасль медицины определилось всем ходом развития науки и общественной жизни страны.
Именно в этот исторический период в России в борьбе с теорией «миазм» стало утверждаться учение «контагионистов». Восходящее к глубокой древности представление о «миазмах», вызывающих эпидемические болезни, уже не согласовывались с достижениями науки и философии ХVIII в., поскольку смыкалось с идеалистическими представлениями о причинных факторах эпидемии, неизбежно склоняющих к принятию «кары», ниспосланной человечеству.
Сторонники контагиозной теории объясняли происхождение эпидемических болезней общением здоровых людей с больным или с предметами, которыми они пользовались и которые вследствие этого несли «заразное» начало, и поэтому были способны материализовать причинные факторы эпидемии. Взгляды сторонников контагиозной теории не оставляли места для мистических толкований и, главное, позволяли намечать и осуществлять действенную систему мероприятий в борьбе с эпидемиями, поэтому отвечали требованиям времени в период модернизации страны, которая началась с реформ Петра I.
Критическое отношение к теории миазматического происхождения болезней отличало деятельность А.Ф. Шафонского (1740–1811), К.О. Ягельского (1736–1774), Д.С. Самойловича (1744–1805), С.Г. Зыбелина (1735–1802) и др.
Для отечественных врачей, в отличие от врачей-иностранцев, работавших в России в те годы, эпидемические болезни оставались реальной проблемой их собственного общества. Возможно, именно этим обстоятельством и был вызван специфический взгляд на эпидемии, которые они склонны были анализировать для усовершенствования способов борьбы с опасными болезнями. Результаты наблюдений, практического опыта и научных исследований они обобщили в рукописях и печатных трудах.
Особое место в перечне трудов отечественных врачей занимает сочинение А.Ф. Шафонского «Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 год: с приложением всех для прекращения оной тогда установленных учреждений», которое по праву можно назвать первым научным исследованием. Чрезвычайно важным представляется то обстоятельство, что книга была написана на российском языке для «природных россиян» (Москва: Императорский Университет, 1775).
Исключительное место среди работ отечественных врачей занимают труды Д.С. Самойловича, создавшего учение о способах заражениях и путях распространения чумы и предложившего конструктивные решения для борьбы с этим заболеванием. Свои взгляды Д.С. Самойлович изложил в ряде сочинений, наиболее крупные из которых – изданное во Франции «Рассуждение о чуме, производившей в 1771 г. опустошения в Российской империи и особенно в столичном городе Москве» («Memoire sur la peste qui en 1771 ravagea l’Empire de Russie surtout Moscou, la capitale». Paris, 1783) и капитальный труд в 4 частях, появившийся в России на рубеже ХVIII и ХIХ вв.: часть I «Способ самый удобный повсеместного врачевания смертоносной язвы, заразоносящейся чумы» (1798); часть II «Способ наиудобнейший ко недопущению первоначально возникнуть оказавшейся где-либо промеж народом смертоносной язве заражаемой чуме» (Николаев, 1803); часть III «Начертание, как где предлежит изготовлять строение тут же внутрь города, либо селения ко врачеванию язвозачумляющихся»; часть IV «Способ самый удобный, как предъизбегать язвозачумляющихся на судне мореходном людей...» (Николаев, 1803).
Опираясь на труды А.Ф. Шафонского, Д.С. Самойловича, работы других воспитанников российских госпитальных школ, можно уверенно сказать, что в годы борьбы с эпидемиями чумы был заложен прочный фундамент отечественной научной эпидемиологии.
Эпидемии чумы в конце ХVIII – начале ХIХ в. были постоянными спутниками военных кампаний. Особенно опустошительной была эпидемия чумы 1770–1772 гг. во время русско-турецкой войны (1768–1774), успешная борьба с которой стала возможной благодаря прогрессивным теоретическим представлениям о сути эпидемии, а также созданной и щедро профинансированной из императорской казны противоэпидемической системе, реализовавшей на практике научно обоснованные мероприятия.
Чума, свирепствовавшая на театре военных действий (1769–1770), с ранеными и репатриантами проникла в Россию и далее – в Москву.
Первые случаи заболевания чумой в Москве были отмечены в ноябре 1770 г. в жилом доме служителей Генерального сухопутного госпиталя на Введенских горах, где старшим доктором состоял А.Ф. Шафонский, обладатель диплома доктора медицины Страсбургского университета. Незадолго до этих событий, в начале русско-турецкой войны, он служил в действующей армии и успел ознакомиться с проявлениями этой опасной болезни.
А.Ф. Шафонский первым распознал заболевание у госпитальных служащих и доложил об этом руководителю медицинской службы города А.А. Риндеру – опытному практику, немцу по происхождению, состоявшему на службе в России более 25 лет и занимавшему высокий пост московского штадт-физика.
А.А. Риндер после осмотра больных и умерших никакого решения не вынес. Тогда А.Ф. Шафонский особым рапортом уведомил Медицинскую коллегию в Петербурге и предложил собрать находящихся в Москве медиков для освидетельствования больных. Собравшиеся на совет московские врачи в присутствии А.А. Риндера единогласно подтвердили, «что появившаяся в госпитале, что на Введенских горах, болезнь должна почитаться за моровую язву, для прекращения которой всю госпиталь от сообщения с городом надлежит отделить» (А.Ф. Шафонский, 1775).
Не дожидаясь решения вопроса о характере болезни и считая болезнь «прилипчивой», А.Ф. Шафонский организовал первые противоэпидемические мероприятия по локализации очага, в котором из 27 заболевших умерли 22 человека.
Когда опасность дальнейшего распространения эпидемии миновала, А.А. Риндер неожиданно выступил с «особым мнением об объявленной в госпитале болезни», в котором отрицал, что обнаруженная болезнь есть моровая язва. Болезнь он характеризовал как «злую», «гнилую» лихорадку, а карбункулы, отмечавшиеся у многих больных, относил к «незаразительным ядовитым пузырям», которые, в отличие от других зараз, признаются «неприлипчивыми». Свое особое мнение он обосновывал тем, что в таком климате, в котором находится Москва, язва «сама собою произойти не может» (А.Ф. Шафонский, 1775). В качестве причины возникновения в госпитале «злой» горячки он указал на тесноту, скученность, грязное содержание и плохой воздух помещений, в которых жили госпитальные служащие.
«Мнение» А.А. Риндера нанесло большой вред делу борьбы с чумой в Москве. Власти города и полиция, получив заявление такого авторитетного лица, мероприятия по борьбе с чумой либо совсем забросили, либо стали проводить небрежно.
К сожалению, многие иноземные врачи, среди которых был А.А. Риндер, не смогли достойно ответить на вызов эпидемии, однако на тот момент среди московских врачей они составляли подавляющее большинство: из 14 докторов только 5 были русскими (А. Ф. Шафонский, К.О. Ягельский, П.И. Погорецкий, С.Г. Зыбелин и П.Д. Вениаминов), среди 9 штаб-лекарей – 1 русский, из 23 лекарей – 1 русский.
Прожив десятилетия в России, многие из иноземных врачей не умели говорить по-русски, рассматривая свою службу как отбывание в должности. Во время эпидемии они часто сторонились чумных больных, избегли контакта с ними. Австрийский врач Карл Мертенс, служивший в Москве с 1767 по 1772 г., вспоминал, что, посещая «зачумленных» на дому, он и другие врачи не прикасались ни к больному, ни к его постели, оставаясь на известном расстоянии, однако же это не помешало ему по возвращении в Вену опубликовать книгу, в которой он упоминал и о московской чуме 1771 г., принижая роль русских врачей в борьбе с эпидемией.
В свою очередь основная часть московского населения относилась с недоверием к иноземным лекарями и не следовала их рекомендациям.
В марте 1771 г. стало известно, что в Москве существует еще один очаг чумы. На Замоскворецкой суконной фабрике неожиданно стали умирать фабричные работники и члены их семей.
На фабрику был направлен К.О. Ягельский – доктор медицины, преподаватель медицинской школы Генерального сухопутного госпиталя – в сопровождении представителя полиции. Они обнаружил на фабрике 16 больных в «горячке» с обширными в «рублевик величины» пятнами и бубонами на теле. При изучении конторских книг выяснилось, что с начала года на суконной фабрике умерло 113 человек.
Благодаря расследованию, проведенному А.Ф. Шафонским и К.О Ягельским, удалось установить, что среди городского населения Москвы случаи заболевания встречались уже в январе 1771 г. Как выяснилось, об этом было своевременно доложено А.А. Риндеру, но никаких мер к пресечению опасной болезни им предпринято не было.
Таким образом, эпидемиологическое расследование показало, что в Москве одновременно существовали 2 очага чумы. В то время как один из них был своевременно распознан и ликвидирован, другой в течение по меньшей мере двух с половиной месяцев оставался не выявленным.
Для принятия мер по борьбе с эпидемией 11 марта 1771 г. был созван консилиум московских врачей. Считая болезнь «прилипчивой и заразительной», собрание предложило принять «меры предосторожности». Суконная фабрика была закрыта; все заболевшие были переведены за пределы Москвы, в Николо-Угрешский монастырь, а здоровые были помещены в карантинные дома в черте города.
Доктор И.Ф. Эразмус, старейший среди московских врачей, составил 2 подробных наставления: «Инструкцию, данную лекарю, для пользования больных, в Угрешском монастыре определенному» и «Инструкцию, данную лекарю, состоящему в карантинном доме, при фабричных работающих», в которых подробно излагалось, как осматривать больных, распределять их по покоям, кормить, поить и врачевать.
Несмотря на то что были приняты необходимые предупредительные меры, второй очаг чумы полностью локализовать не удалось, поскольку многие рабочие жили не на фабрике, а в разных частях города и продолжали тесно общаться с жителями Москвы. Более того, после посещения доктора К.О. Ягельского многие из них, испугавшись карантинных мер, на фабрику не вернулись и бесследно исчезли.
Так как очаг инфекции разрастался, для борьбы с эпидемией были мобилизованы все московские врачи, «как в службе стоящие, так и уволенные».
Для облегчения учета заболевших и умерших и направления больных в больницы, а бывших в контакте с ними – в карантинные дома, город был разделен на 14 частей. Во главе каждой части был поставлен частный смотритель из числа членов разных коллегий и канцелярий. При смотрителях состояли врачи. В круг обязанностей частных смотрителей входило не только выявление заболевших и скоропостижно умерших с последующей организацией изоляционных и дезинфекционных мероприятий, но и ежедневная подача сведений о числе умерших.
Таким образом, во время эпидемии чумы в Москве 1770–1772 гг. была впервые создана и реализована на практике система активного выявления больных и умерших жителей города, которая позволила объективно оценить эпидемическую ситуацию и составить представление о реальных проблемах.
Первые статистические сводки показали: в апреле в городе от чумы умерло 665 человек, а в монастырских больницах и карантинных домах – 79 человек. К концу мая в чумных больницах и карантинах погибло 56 человек, а в городе – в 14 раз больше (795 человек).
Не придав этому значения, представители власти вынесли поспешное постановление о роспуске людей, находившихся в чумных больницах, за малым их числом, сокращении карантинных сроков и ликвидации части карантинных застав вокруг Москвы.
Вследствие допущенных ошибок эпидемия чумы продолжала расширяться. Смертность от месяца к месяцу возрастала: в июне умерло уже 994 москвичей, в Николо-Угрешском монастыре и карантинных домах – 105, итого – 1099 человек.
В июле в Преображенской, Семеновской и Покровской слободах стали вымирать целые дома. По статистическим сводкам, умерло 1708 человек.
Собравшийся на очередное заседание Московский медицинский совет вынужден был признать, что опасная болезнь рассеялась по всему городу, и указал на необходимость дополнительных мер по ограничению её распространения.
С целью усовершенствования системы выявления больных и умерших Москва была разделена вместо прежних 14 на 20 частей, с таким же числом частных смотрителей. Во всем городе были определены «осмотрщики», которым поручалась «дистанция», состоящая из 10, иногда 20 домов. «Осмотрщики», переписав всех жителей своей «дистанции», должны были ежедневно делать перекличку и в случае обнаружения больного или мертвого тотчас сообщать об этом своему частному смотрителю.
В Москве к этому времени уже были закрыты присутственные места, запечатаны городские бани. Питейные дома продавали вино через окно или дверь, не пуская посетителей внутрь. Из числа фабричных был создан отряд по борьбе с чумой, в котором рабочие за 6 копеек в сутки следили за тем, чтобы никто не выбрасывал на улицу больных или мертвых. На этих же рабочих возлагались обязанности транспортировки больных и умерших с тем, однако, условием, чтобы они до больных не дотрагивались, а если кто-нибудь из них добровольно брал на себя обязанности раздевания больных, то ему полагалось не 6, а 10 копеек в день.
Решительным шагом, предпринятым администрацией города, было привлечение к проведению санитарных мероприятий уголовных преступников. Извозчики, «погребатели» и санитары, вербовавшиеся из рабочих Суконного двора, видя, что свирепствующая болезнь не обыкновенная, а «особенного роду», которая «одним прикосновением пристает», отказались «при таком упражнении оставаться». Тогда для вывоза из домов больных и погребения умерших были определены уголовные преступники. Они были одеты в особую, пропитанную воском или просмоленную одежду, лицо наглухо закрывалось маской, на руках были просмоленные рукавицы. Эти «мортусы» длинными крючьями вытаскивали из домов чумные трупы или зараженные вещи. Народ боялся их больше самой чумы, так как ходили упорные слухи, что они выволакивали крючьями не только мертвых, но даже и живых, находившихся в бессознательном состоянии, и бросали их в братские могилы.
Несмотря на отчаянные попытки ограничить распространение эпидемии, чума день ото дня свирепствовала все с большей силой. По официальным данным, в течение августа от чумы умерло 7268 человек: в Москве – 6423, в больницах и карантинах – 845; в сентябре – 21 401 человек: в городе – 19 760 , в больницах и карантинах – 1640.
Нарастающая эпидемия, бессилие власти, боязнь карантинов и больниц, вывоз в которые грозил москвичам полным разорением, спровоцировало стихийное массовое выступление горожан. 15 сентября 1771 г. в Москве вспыхнул народный мятеж, известный под названием «чумного бунта», который через несколько дней был подавлен войсками.
По получении известия о бунте из Петербурга в Москву в качестве особо доверенного лица был командирован граф Г.Г. Орлов и с ним ряд высших медицинских чиновников. С этого момента все мероприятия в городе были обеспечены за счет «короны».
В короткий срок Г.Г. Орлову удалось навести окончательный порядок в городе, привести к согласию московских медиков, выделив среди них ключевые фигуры, и обуздать эпидемию.
Московские медики, созванные Г.Г Орловым на медицинский совет, отбросив теоретические разногласия о сути эпидемии, определились с критериями «стандартного» случая, разработали «протоколы» лечения и профилактики.
На обсуждение медицинского совета также были поставлены и более конкретные вопросы: достаточно ли больниц и карантинов, соответствуют ли они потребностям создавшейся ситуации и т. п.
Собранные сведения послужили основанием для издания указа от 11 октября 1771 г. «Об учреждении двух Комиссий для прекращения моровой язвы». В задачи первой комиссии входило все то, «что к сохранению и врачеванию людей от язвы и к скорейшему сего зла пресечению принадлежать может». Функции второй комиссии были административными и судебными: она должна была наблюдать за точным выполнением всех распоряжений и указаний первой комиссии, а также за порядком и безопасностью в городе.
«Комиссия для предохранения и врачевания от моровой язвы» энергично взялась за организацию новых и реорганизацию старых больниц и карантинов. Больницы и карантинные дома решено было устраивать за городом, «на чистом и открытом месте», причем так, чтобы карантинные дома были расположены вблизи больниц для быстрейшей транспортировки больных. При больницах были организованы приемные покои, внутри больниц организована сортировка больных и устройство палат для тяжелых, «надёжных» и выздоравливающих больных.
В Москве на тот момент функционировали 4 больницы и 12 карантинных домов, содержание в которых впредь осуществлялось за счет императорской казны. Врачи начали получать двойное жалование и сверх того ежемесячную прибавку: докторам – по 36 руб., штаб-лекарям – по 30, лекарям и подлекарям – по 24, а ученикам – по 20.
В целях улучшения работы по учету больных и умерших Москва была разделена на 27 участков (вместо 20). В своих ежедневных рапортах частные смотрители указывали симптомы («знаки») болезни, а также иные сведения о больных, направленных в больницы. Направление в больницу скреплялось двумя подписями: частного смотрителя и врача. Больничные врачи в свою очередь обязаны были ежедневно присылать в комиссию рапорты о поступивших больных.
Таким образом, возникшая система выявления больных и умерших была дополнена составлением подробных рапортов, на основании которых составлялись отчеты по городу в целом, а также сообщения в Сенат.
Помимо этого, комиссия активно занималась санитарным просвещением населения. Так, например, были изданы печатные листы «Как самому себя от язвы пользовать», «Краткое уведомление, каким образом познавать моровую язву, так же врачевать и предохраняться от оной» (М.Г. Орреус), «Каким образом яд язвенный в домах и вещах зараженных истреблять» (К.О. Ягелский).
Есть все основания полагать, что в ходе борьбы с эпидемией эти виды санитарного просвещения были впервые применены в нашей стране, равно как и весьма эффективные приемы материального поощрения населения.
Г.Г. Орлов объявил, что все люди, выписывающиеся из больниц и карантинных домов, получат новую одежду и денежное пособие: женатые – по 10 руб., холостые – по 5. По словам А.Ф. Шафонского, «таковое награждение, а к тому же частые и скорые выпуски столько действовали, что многие сами охотно приходили объявлять свою болезнь и просили, чтобы их отправили в карантин» (А.Ф. Шафонский, 1775).
Следует отметить также смену курса государственной политики в сфере социальной поддержки населения. Из императорской казны весь город был обеспечен хлебом и съестными припасами. Для детей, лишившихся родителей, «учрежден был коронным иждивением в Таганке особый дом», откуда по истечении карантинного срока детей переводили в Императорский Воспитательный дом. Всех нищих полиция подбирала и направляла в освободившийся от больных Николо-Угрешский монастырь, где их содержали «коронным иждивением». Погребение умерших также финансировалось из императорской казны и проводилось «казенными людьми и лошадьми» в специальных местах за городом. Решительно пресекались мародерство и другие виды преступлений.
В конечном итоге москвичи почувствовали больше доверия к властям, больницам и врачам. Число поступивших в больницы и карантинные дома заметно увеличилось. Число умерших сократилось в октябре по сравнению с сентябрем с 21 401 до 17 561 человека. При этом в городе умерли 19 761 и 14 935 человек соответственно, в больницах – 1640 и 2626 (!). В ноябре число умерших составило 5235 человек, в декабре – 805, в январе 1772 г. – 330, в феврале – 352, в марте – 334.
Несмотря на то что эпидемия пошла на убыль, в Москве продолжалась работа по «очищению» и «окуриванию» города. Специальные императорские указы (от 12 января 1772 г.) возлагали санитарную обработку фабрик на их хозяев, а церквей – на служителей храмов.
Для окуривания помещений и обеззараживания вещей К.О. Ягельский и Д.С. Самойлович предложили оригинальные противочумные порошки, эффективность которых была показана в «клинических» исследованиях. Есть все основания полагать, что К.О. Ягельский и Д.С. Самойлович провели первое в стране «клиническое» исследование, в котором принимали участие 7 человек, добровольно согласившихся жить в доме, где все обитатели умерли от чумы, и носить одежду больных после обработки «крепким противочумным порошком».
О результатах успешно завершенного испытания Д.С. Самойлович доложил на заседании Комиссии для предохранения и врачевания от моровой язвы.
15 ноября 1772 г. указом императрицы Москва была объявлена благополучным городом, а 25 ноября 1772 г. во всех соборах и церквах был отслужен молебен за избавление столичного города от чумной напасти. Жители, покинувшие город, начали возвращаться домой.
В упорной борьбе с эпидемией чумы в Москве в 1770–1772 гг. зародились и были осуществлены на практике мероприятия по пресечению чумы, основанные на прогрессивных теоретических представлениях о причинах возникновения эпидемии и законах, определяющих её развитие; создана система своевременного выявления и учета больных и умерших с определением больных и контактировавших во временные больницы и карантины соответственно; созданы новые средства дезинфекции, эффективность которых была показана в «клинических» испытаниях; использованы приемы санитарного просвещения и материального поощрения населения; применены методы государственной организации санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Труды отечественных врачей, написанные по итогом расследования и борьбы с эпидемией чумы в Москве в 1770–1772 гг., достойны углубленного изучения современниками в качестве примера аналитической, экспериментальной и практической работы, которая была проведена намного раньше широко цитируемой в литературе работы Джона Сноу во время эпидемии холеры, случившейся в 1854 г. в Лондоне.