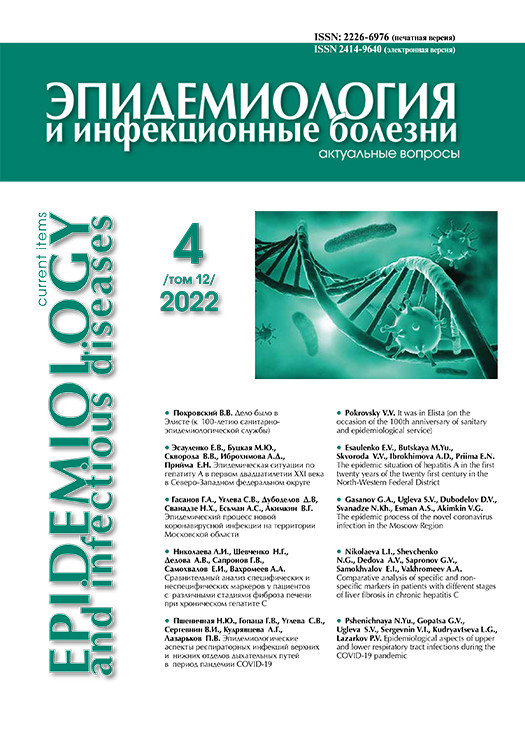Возникновение и распространение COVID-19 существенно повлияли на эпидемиологию и этиологическую структуру респираторных инфекций верхних (ВДП) и нижних дыхательных путей (НДП) как в мире, так и в Российской Федерации.
В этиологической структуре острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) до пандемии COVID- 19 наибольший процент верифицированных случаев заболевания приходился на риновирусы (30–50%), коронавирусы (10–15%), аденовирусы (5–10%), респираторно-синцитиальные вирусы – РСВ (5–10%). Вирусы парагриппа составляли 5–10%, гриппа – 5–15%1. Циркуляция большинства основных респираторных вирусов характеризовалась определенной сезонностью. Вирусы гриппа проявляли активность с ноября по апрель, их редко выявляли в другое время года, сезонные коронавирусы – с декабря по апрель, РСВ – с ноября по март. Циркуляция вирусов парагриппа отличалась типоспецифичностью: парагрипп 3-го типа обычно циркулирует с марта по июнь, 1-го и 2-го типа – с августа по ноябрь. Основная заболеваемость риновирусами приходилась на сентябрь–октябрь и март–май. Энтеровирусы условно считаются «летними», так как в основном они встречались в период с июня по октябрь. Аденовирусы и бокавирусы относились к круглогодично циркулирующим вирусам [1]. Такая периодичность циркуляции прослеживалась до пандемии.
Среди представителей этиологических агентов, вызывающих заболевания НДП, до пандемии обычно доминировал S. pneumoniae (22%), регистрировались Legionella spp. (9%), S. aureus и представители Enterobacterales (по 7%), H. influenzae и C. burnetii (по 5%), P. aeruginosa и C. pneumoniae (3%), M. pneumoniae – 2% [2].
Пандемия COVID-19 оказала влияние на эпидемиологию заболеваний ВДП и НДП.
Во всем мире зарегистрировано:
- снижение заболеваемости респираторными инфекциями ВДП и НДП вирусной и бактериальной этиологии (грипп, пневмококк и др.);
- снижение числа случаев вирусной пневмонии с отличной от COVID-19 этиологией (грипп и др.);
- снижение числа случаев госпитализации с отличной от COVID-19 этиологией пневмонии;
- снижение числа впервые выявленных случаев туберкулеза.
Это обусловлено объективными причинами, связанными с неспецифическими мерами профилактики респираторных инфекций и ограничительными мероприятиями. Тем не менее в ряде случаев низкие цифры заболеваемости инфекциями ВДП и НДП, отличными от COVID-19, обусловлены снижением их диагностики в период пандемии [3].
Цель исследования – обзор тенденций изменения эпидемиологии инфекций ВДП и НДП в период пандемии COVID-19.
В первую половину 2020 г., когда пандемия COVID- 19 только набирала обороты, была отмечена необычная тенденция в отношении заболеваемости инфекциями ВДП и НДП в отдельных регионах России. Оказалось, что заболеваемость COVID-19, ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями (ВП) суммарно за январь–июнь 2020 г. превысила средние значения таковой для ОРВИ, гриппа и ВП за первые 6 мес. 2016–2019 гг. только в 32 из 85 регионов РФ [4]. Из них в 25 субъектах разница в уровне заболеваемости острыми респираторными инфекциями за 1-е полугодие 2020 г. и аналогичный период 2016–2019 гг. составила 10–30%. В 7 субъектах РФ прирост составил от 30 до 1500%: в Республиках Бурятия, Тыва, Ингушетия, Дагестан, Забайкальском крае и Калининградской области. Примечательно то, что Республики Тыва, Бурятия, Алтай, а также Забайкальский край граничат друг с другом и находятся вблизи или непосредственно граничат с Китаем, где случаи COVID-19 начали выявлять еще в декабре 2019 г. Калининградская область граничит с Польшей и Литвой, где в более ранние сроки начался эпидемический процесс COVID-19, а Дагестан имеет морскую границу с Ираном, где эпидемия COVID-19 началась раньше. Возможно, проникновение вируса SARS-CoV-2 произошло на эти территории до начала обязательного тестирования всех приезжающих из-за границы, что и отразилось на заболеваемости инфекциями ВДП и НДП в 1-м полугодии 2020 г. в этих регионах. Традиционный уклад жизни в Ингушетии и Дагестане также мог способствовать активной циркуляции вируса даже на фоне введения ограничительных мероприятий [5].
При сравнительном анализе циркуляции вирусов ОРВИ в сезонах 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 гг. на основании данных «Еженедельного бюллетеня по гриппу и ОРВИ ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России [6] оказалось, что активность вирусов гриппа в сезоне 2020–2021 гг. была на историческом минимуме, а в сезоне 2021–2022 гг. проявилась необычно рано, в июле 2021 г., несмотря на ограничительные мероприятия. Безусловно, ежегодная вакцинация от гриппа оказывает свое позитивное влияние на сезонный подъем заболеваемости этой инфекцией, что отражается в средних многолетних показателях, но пандемия также внесла свой вклад в необычно низкий уровень циркуляции вирусов гриппа. Тем не менее специфическую профилактику гриппа следует только наращивать. В мире накоплен опыт того, что вакцинация от гриппа может индуцировать тренированный иммунный ответ, включая улучшение цитокиновых реакций после стимуляции иммунных клеток человека SARS-CoV-2, защищая от манифестных и тяжелых форм болезни COVID-19 [7–9].
Вирусы парагриппа в течение 2 прошлых эпидемических сезонов начали циркулировать позже обычного и не так активно, как ранее (рис. 1).

Cезонные коронавирусы и метапневмовирусы демонстрировали в последние 2 года более низкую активность. После периода минимальной активности в 2020–2021 гг. наблюдался ранний выраженный рост заболеваемости респираторно-синцитиальной инфекцией в 2021–2022 гг., что настораживает в плане снижения популяционного иммунитета к РСВ и повышения уязвимости детей до 2 лет [10]. Для этого контингента респираторно-синцитиальная инфекция особенно опасна, так как в 40% случаев приводит к развитию тяжелой острой респираторной инфекции2.
Циркуляция риновирусов в сезоне 2021–2022 гг. восстановилась до пандемического уровня, что, вероятно, позволит медленно оттеснять SARS-CoV-2 от лидерства в популяции. В какой-то степени это можно рассматривать как позитивный косвенный тренд в развитии пандемии, так как риновирусы в культуре клеток, будучи внесенными туда как до, так и после вируса SARS-CoV-2, активно ингибируют репликацию последнего [11].
Эпидемический процесс COVID-19 и ОРВИ наглядно это продемонстрировал в первой половине 2022 г. Если заболеваемость ОРВИ, основной вклад в которую вносит риновирус, росла, то число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 снижалось (рис. 2) [6].
Таким образом, возникновение и распространение SARS-CoV-2 и последовавшие ограничительные меры повлияли на сезонную циркуляцию других респираторных вирусов во всем мире. Пока неизвестно, сколько времени понадобится для восстановления сезонных моделей циркуляции респираторных вирусов. Изменение в эпидемиологии ОРВИ может нести потенциальные риски новых эпидемий или крупных вспышек, появления атипичных форм, изменений в распределении по возрасту и тяжести заболевания. Снижение популяционного иммунитета в отношении других респираторных вирусов, отличных от COVID-19, может способствовать появлению новых штаммов, изменению контингента восприимчивых лиц, повышению уязвимости детей. На настоящий момент имеется много пробелов в теориях вирусной интерференции, влияния окружающей среды и температуры на сезонность вируса, роли иммунитета в передаче инфекции на популяционном уровне.
Есть целый ряд факторов, свидетельствующих о явно негативном влиянии пандемии и на эпидемиологию инфекций НДП:
- бесконтрольное назначение антибиотиков, начиная с амбулаторного этапа лечения респираторной инфекции ВДП (без признаков бактериальной инфекции);
- избыточное и необоснованное назначение антибиотиков при COVID-19 пневмонии;
- селекция антибиотикорезистентных штаммов;
- распространение антибиотикорезистентных штаммов;
- рост инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Структура бактериальных возбудителей внебольничных пневмоний во время пандемии существенно изменилась. Об этом свидетельствуют многие научные публикации [12–15], в том числе и российских ученых.
Так, по данным совместного исследования ФКУЗ «Ростовский научно-исследовательский противочумный институт» и ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора [14], если основными возбудителями внебольничной пневмонии до пандемии COVID-19 были S. pneumoniae, Legionella spp., S. aureus, Enterobacterales, H. influenzae, то во время пандемии их спектр существенно изменился. В августе 2020 г. среди выделенных из мокроты и бронхоальвеолярного лаважа микроорганизмов при первом обследовании пациентов в стационаре в 57% случаев была обнаружена C. albicans, в 15,4% – S. saprofiticus, в 7,4% – S. epidermidis, в 5,1% – C. krusei, в 4,3% – K. pneumoniae. S. pneumoniae выявляли лишь в 1,7% случаев. Всего было обследовано 284 пациента с ВП. Патогенные микроорганизмы были выявлены у 96 больных с выделением 121 изолята. В декабре 2020 г. C. аlbicans выделяли в 37–40% случаев у COVID-19«+» пациентов. У COVID-19«-» пациентов выделение C. аlbicans к этому же периоду времени возросло с 24 до 40%, а выделение S. pneumoniae сократилось c 4,5 до 0% у COVID-19«+» пациентов и с 4,6 до 1% – у COVID-19«-». В декабре 2020 г. по сравнению с августом 2020 г. с 5,8 до 14,1% увеличилась частота обнаружения S. aureus у COVID-19«+» пациентов и с 3,9 до 7,7% – у COVID-19«-». В широком спектре были выявлены различные представители условно-патогенной флоры, являющиеся по большей части возбудителями ВП. Такой же спектр возбудителей сохранился и при исследованиях с интервалом 6 мес. в июне 2021 г. Превалировали Candida spp. и Klebsiella spp., регистрировали и других представителей условно-патогенной флоры, S. pneumoniae встречался в единичных случаях. К антибиотикам первой линии (пенициллинам и цефалоспоринам) имели устойчивость более 50% выделенных штаммов. Аналогично большинство выделенных штаммов дрожжевых и дрожжеподобных грибов обладали устойчивостью к популярным в стационарах флуконазолу и итраконазолу [14].
Аналогичные результаты были получены и в совместном исследовании ФКУЗ «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» и ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора [15]. При бактериологическом исследовании мокроты больных ВП в 2 лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) Хабаровска превалировали грибы рода Candida (51 и 69%), S. saprophyticus (11,5 и 23,3%) и ряд представителей условно-патогенной флоры. S. pneumoniae встречался лишь в 1,3 и 2,3% соответственно. Более чем 2/3 выделенных изолятов обладали множественной лекарственной устойчивостью. В аутопсийном материале пациентов, умерших от ВП, преобладала K. pneumoniae, частота выделения которой росла по мере увеличения срока госпитализации (с 8,5 до 31%), увеличивалась и доля карбапенемаз-резистентных штаммов (с 65 до 88%), С. albicans в аутопсийном материале уходила на второй план.
Пандемия, вызванная SARS-CoV-2, существенно повлияла на эпидемиологию инфекций не только ВДП, но и НДП. Произошло изменение спектра патогенов, вызывающих поражение НДП, во многом обусловленное снижением циркуляции часто встречающихся респираторных микроорганизмов (S. pneumoniae, H. influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, респираторные вирусы) на фоне раннего и необоснованного назначения антибиотиков. Терапия COVID-19 в связи с назначением больших доз стероидов и ингибиторов провоспалительных цитокинов повысила уязвимость пациентов к ВП, а также способствовала активации собственной бактериальной и грибковой микрофлоры. Избыточное и неадекватное назначение противомикробных препаратов привело к отбору микроорганизмов, устойчивых к лекарственным средствам, а нарушение противоэпидемического режима в ЛПУ способствовало распространению микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью.
Заключение
В нынешний период пандемии COVID-19 и после ее завершения необходимо усиление молекулярно-генетического надзора и в целом эпидемиологического надзора за циркулирующими респираторными вирусами для прогнозирования изменений в эпидемическом процессе сезонных респираторных инфекций. Необходимы дальнейшие исследования основных механизмов, определяющих эпидемиологические особенности респираторных вирусов, которые учитывают вирусную эволюцию, вирусную интерференцию, взаимодействие между вирусом и иммунитетом хозяина. Это поможет выявить возникающие угрозы пандемии, а также лучше подготовиться к долгосрочному прогнозированию и, соответственно, противодействию будущим вспышкам и эпидемиям. Следует продолжать непрерывный эпидемиологический надзор за патогенами, вызывающими заболевания НДП, в свете их меняющейся эпидемиологии и оптимизировать стратегии борьбы с ними. Необходимо усиление программ по рациональной антимикробной химиотерапии, а также противоэпидемического режима в ЛПУ для предотвращения распространения мультирезистентных штаммов.