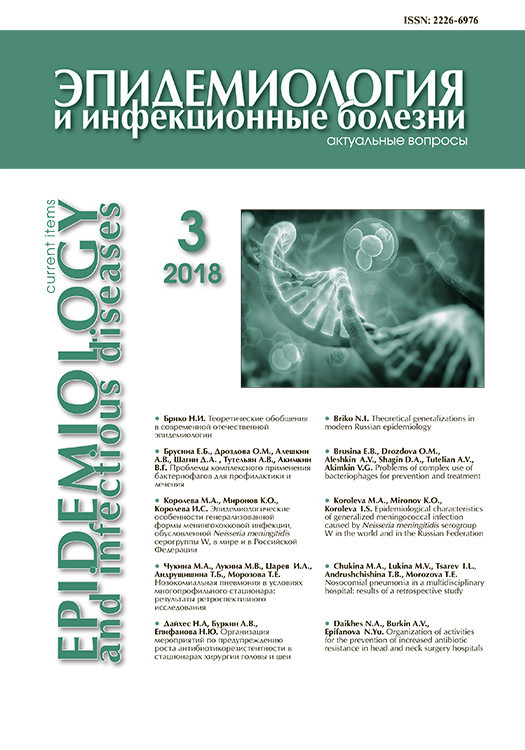В настоящее время одной из важнейших медицинских проблем является рост распространенности ВИЧ-инфекции в популяции. Продолжается вовлечение в эпидемический процесс все большего количества женщин детородного возраста, растет число рожденных ими детей. Появление антиретровирусной терапии (АРТ) привело к увеличению количества родов у ВИЧ-позитивных женщин в 1,5 раза. В России от ВИЧ-инфицированных матерей ежегодно рождается около 16 000 детей. В 2016 г. 719 детей имели ВИЧ-положительный статус в результате перинатального контакта. Всего в России зарегистрировано около 10 000 детей, живущих с ВИЧ, у четверти из них диагноз установлен в возрасте старше 6 лет1.
Без АРТ смертность среди детей составляет 90% в течение 10 лет. Несомненно, для ее снижения необходимо раннее начало терапии. В нашей стране более 80% ВИЧ-инфицированных детей получают АРТ, тем не менее подавленная вирусная нагрузка (ВН) наблюдается не в каждом случае1. К текущим нерешенным вопросам лечения детей можно отнести несвоевременное выявление, нарушение наблюдения детей с ВИЧ-инфекцией на диспансерном учете, проблемы низкой приверженности к АРТ и ее безопасности, своевременный перерасчет дозировок препаратов согласно возрасту. Особого внимания требует работа с подростками (принятие диагноза, выработка приверженности, переход на новые схемы АРТ), так как в этом возрасте даже небольшие проблемы с лечением приводят к полному отказу от него и значительному ухудшению прогноза. Массово применяемые схемы АРТ [бустированные ингибиторы протеазы (ИП), ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ) первого поколения] у детей позволяют снизить количество смертельных исходов, тем не менее данные схемы обладают рядом недостатков в плане безопасности и переносимости, которые особо остро ощущаются детьми по мере взросления.
Согласно рекомендациям специалистов, у ВИЧ-инфицированных детей с достигнутой супрессией на фоне текущей АРТ следует регулярно оценивать возможность перехода на новый режим, который будет снижать риск токсичности, упрощать АРТ и облегчать соблюдение приема, а при необходимости – повышать эффективность лечения. Это связано с тем, что метаболические нарушения выявляются у 26–65% детей вне зависимости от длительности АРТ и возраста ребенка [1]. Токсичность – причина изменения схемы АРТ у 4 из 5 ВИЧ-инфицированных детей в России, зачастую она обусловлена применением метаболически неблагоприятных схем терапии и является причиной самостоятельной «модификации» и отмены АРТ пациентами2.
Более 2000 ВИЧ-инфицированных детей преодолели возрастной порог в 12 лет и входят в группу риска, когда метаболически неблагоприятная или плохо переносимая схема АРТ приводит к отмене терапии и может быть фактором передачи ВИЧ-инфекции в дальнейшем наряду со значительным ухудшением состояния пациента1.
По ряду объективных причин – высокие темпы развития заболевания; ограниченное количество детских форм лекарственных препаратов; окружение ребенка, которое оказывает непосредственное влияние на его судьбу, – дети продолжают оставаться одной из самых уязвимых групп населения, которая требует к себе особого внимания со стороны специалистов широкого круга смежных специальностей. Необходимо улучшить тактику ведения детей с ВИЧ-инфекцией для повышения эффективности терапии и предотвращения прерывания АРТ и распространения ВИЧ в популяции.
У 32% детей ВИЧ-инфекция выявляется поздно, чаще всего это происходит с детьми, рожденных серонегативными в предродовой период женщинами. В России растет число ВИЧ-инфицированных подростков: в 2011–2013 гг. их было порядка 500, в 2014–2016 гг. стало в 3 раза больше. Это дети, родившиеся на пике эпидемии и инфицированные перинатально. Со временем они взрослеют и переходят в группу «подростков», в которой к 2017 г. насчитывалось уже более 5000 человек.
В последние годы стали чаще (до 30% случаев) выявлять детей, инфицированных матерями, имевшими во время беременности негативный статус. Зачастую женщины не знают о ВИЧ-статусе партнера, могут заразиться ВИЧ как во время беременности, так и в период грудного вскармливания, которое в этих случаях часто бывает продолжительным. В результате ВИЧ у ребенка выявляется чаще всего в школьном возрасте на клинически выраженных стадиях.
Забота о детях выражается в предоставлении им лечения с доказанной высокой эффективностью. В мире сегодня около 2 млн подростков живут с ВИЧ. Эта группа демонстрирует самые плохие показатели каскада помощи; это единственная возрастная группа, в которой растет смертность и, наконец, в этой группе самый низкий уровень осведомленности.
В Российской Федерации высок охват диспансерным наблюдением детей с ВИЧ-инфекцией, однако по данным каскада оказания помощи, подавленная ВН зафиксирована только у 79% детей, состоящих на учете и получающих АРТ.
Требования к АРТ, применяемой у детей и взрослых, во многом совпадают. Это и подавление хронического воспаления, и предотвращение долгосрочной токсичности, и максимальное удержание на терапии, и удобство режимов лечения и, безусловно, предотвращение трансмиссии.
Однако есть особенности, касающиеся факторов, влияющих на эффективность лечения – это возраст начала и длительность АРТ. Дети, инфицированные перинатально, получают лечение на протяжении долгого времени. В РФ 90% детей начинают лечение на первом году жизни. Около 30% детей начинают АРТ рано и к подростковому возрасту это уже «старые и опытные» больные. 78% детей получают схемы первой линии терапии в возрасте до 10 лет. У каждого второго ребенка старше 10 лет уже произошла одна смена схемы лечения, а у каждого пятого – это третья и четвертая линии АРТ.
В условиях необходимости пожизненной терапии на первый план выходит токсичность АРТ. Множество исследований выявили, что метаболические нарушения встречаются у 26–65% детей и не зависят ни от длительности АРТ, ни от возраста ребенка [1]. Известно, что на фоне лечения бустированными ИП происходит ухудшение метаболического статуса, а последующие переключение на прием ННИОТ ведет к нормализации биохимических и клинических показателей в течение года лечения [2].
В настоящий момент в РФ у подростков широко используются ИП, при этом существуют альтернативные варианты терапии. Порядка 75% детей получают схему, включающую ИП, которая была начата в 3-летнем возрасте. Остается открытым вопрос, какие изменения могут происходить у детей на этом фоне.
ВИЧ-инфицированный подросток – это не просто ребенок, у многих из них есть также физиологические и психологические проблемы. У подростка с ВИЧ-инфекцией есть дополнительные сложности, связанные с перинатальной ВИЧ-инфекцией: крайне длительный и «разнообразный» стаж АРТ. Подростки – не самая эмоционально и психологически уравновешенная группа. В рамках психологической неустойчивости встает вопрос о целесообразности применения эфавиренза. Известно, что при приеме этого препарата риск суицида возрастает в 2 раза, а в случае отягощенного анамнеза – в 4 раза [3]. Мета-анализ четырех рандомизированных исследований показал равную эффективность ННИОТ нового (рилпивирин – RPV) и старого поколения (эфавиренз – EFV): препараты не отличаются ни по влиянию на уровень ВН, ни по улучшению иммунологического статуса. В то же время прием RPV снижает риск возникновения нежелательных явлений (НЯ) со стороны ЦНС на 48% [4].
Разумеется, для детей, наряду с высокой эффективностью, также важна приверженность к терапии. Режимы приема «1 таблетка в день» (STR) обладают несомненным преимуществом: при применения схем STR по сравнению с раздельным приемом ННИОТ или ИП с нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (НИОТ) приверженность к лечению на 15–25% выше [5].
Прием комбинированного препарата в виде 1 таблетки по сравнению с режимом, требующим раздельного приема препаратов, позволяет снизить риск госпитализаций на 24%, при этом в 1,6 раза увеличивается приверженность к терапии и ее эффективность (p < 0,001) [6]. В исследовании S.S. Sutton и соавт. [7] 15 602 пациента были разделены на 2 группы: STR (п = 6191) и MTR – «терапия раздельными препаратами» (п = 9411). Показано, что в группе STR на 98% был выше шанс достижения необходимой приверженности к АРТ (OR = 1,98; р < 0,001), на 31% ниже риск госпитализации (p < 0,001) и на 21% выше шанс достижения вирусологической супрессии (р < 0,001). В группе STR также было ниже число случаев госпитализации (на 17%; р < 0,001), среднее число госпитализаций на 1 пациента (2,2 против 2,7; р < 0,001) и время до госпитализации (345 дней против 376; р < 0,001).
В 2017 г. было подтверждено, что режим STR значительно повышает эффективность лечения: увеличивается доля пациентов с достигнутой вирусологической супрессией [8].
В действующих руководствах по лечению ВИЧ-инфицированных больных (EACS 9.0; ВОЗ, июнь 2016) указано, что инициации и продолжение терапии необходимо проводить с учетом не только эффективности, безопасности и переносимости терапии, но и лекарственной формы препаратов: предпочтительны комбинации фиксированных доз (рекомендации сильной степени) [9, 10]. Особо подчеркнуто, что невозможна замена фиксированной комбинации АРТ на такую же, но с разделением на монокомпоненты [9].
У взрослых схемы STR связаны с высокими показателями приверженности и улучшением качества жизни [11], STR также позволяет избежать селективной неприверженности [12].
Безусловно, необходимо учитывать перспективу и думать, каким образом мы можем упростить жизнь ребенка и модифицировать схему терапии. Это, прежде всего, назначение комбинированных препаратов, высокоэффективных и при этом метаболически благоприятных. В РФ зарегистрирована и входит в перечень ЖНВЛП схема рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин (RPV/TDF/FTC), удовлетворяющая этим критериям. Пока она является единственно доступной в рамках федеральной программы лечения больных ВИЧ-инфекцией.
Результаты нескольких исследований показали, что RPV/FTC/TDF является благоприятной опцией для ВИЧ-инфицированных взрослых пациентов как с опытом терапии, так и без него. Схема одобрена в США, Европе и РФ для лечения детей от 12 лет на основании данных исследований, показавших его эффективность и безопасность для этой группы пациентов [13–16].
Оценке безопасности и эффективности применения комбинации RPV/FTC/TDF у ВИЧ-инфицированных детей старше 12 лет посвящено многоцентровое исследование L. Falcon-Neyra и соавт. [2]. 17 детей в возрасте от 11,6 до 17,6 года были разделены на 2 группы: 8 пациентов с неопределяемой ВН (нВН; РНК ВИЧ < 20 копий/мл) и 9 пациентов с определяемой ВН (оВН; РНК ВИЧ ≥ 20 копий/мл) на момент начала терапии RPV/FTC/TDF. Причинами переключения стали токсичность (n = 4) и необходимость упрощения применяемой схемы (n = 4) в группе нВН, вирусная неудача (n = 8) и инициация АРТ (n = 1) в группе оВН. По окончании исследования 7 (86%) из 8 пациентов сохранили вирусологическую супрессию и 8 (89%) из 9 достигли супрессии репликации ВИЧ. Медиана количества CD4+-лимфоцитов увеличилась с 542 до 780 клеток/ мкл в группе нВН (р = 0,069) и с 480 до 830 клеток/мкл – в группе оВН (р = 0,051). У 5 пациентов (2 в группе нВН и 3 в группе оВН) зафиксировано улучшение иммунологического статуса (вплоть до отсутствия иммуносупрессии). В группе оВН значительно снизился уровень холестериа (р = 0,008). В отсутствие клинических НЯ были зарегистрированы только лабораторные НЯ I степени (n = 3). Авторы показали, что комбинация RPV/FTC/TDF может быть безопасной и эффективной при лечении ВИЧ-инфицированных детей старше 12 лет.
При отсутствии клинических или значительных лабораторных отклонений в обеих группах значительно увеличилось количество CD4+-лимфоцитов и отношение CD4/CD8. Полученные результаты согласуются с данными других исследований о применении RPV/FTC/TDF у взрослых [13, 14], в которых сравнивали эффективность RPV и EFV. Было выявлено значительное увеличение количества CD4+-лимфоцитов после 96-недельной АРТ в группе RPV [13, 14], также отмечено улучшение липидного профиля.
Результаты применения RPV также исследовали у ВИЧ-инфицированных детей старше 12 лет без опыта терапии (NCT00799864, открытое исследование II фазы, n = 36) [17]. В целом на 48-й неделе АРТ вирусологическая супрессия (ВН < 50 копий/мл) была достигнута у 22 (79%) из 28 участников с исходной ВН > 100 000 копий/мл, а медиана прироста количества CD4+-лимфоцитов составила 184 клеток/мкл.
У 7 (19%) из 36 пациентов отмечены НЯ 3-4-й степени тяжести. Наиболее частыми среди них (без учета причинно-следственных связей) были депрессия (n = 2) и малярия (n = 2). Ни одно из НЯ не было расценено как обусловленное применением RPV.
На 48-й неделе значения площади под кривой «концентрация–время» в течение 24 ч исследования (AUC24) и минимальной (перед введением очередной дозы) концентрации в плазме (Ctrough) у детей (п = 34) были сходны со значениями у взрослых, представленными в исследованиях ECHO/THRIVE (п = 679). Среднее значение AUC24 (стандартное отклонение – СО) составило 2391 (991 нг×ч/мл) у детей и 2397 (1032 нг×ч/ мл) у взрослых, средняя минимальная концентрация в плазме – 83,5 (38,7 нг/мл) и 80,0 (36,5 нг/ мл) соответственно.
Согласно данным самозаполняемых опросников, 3 (9%) из 34 пациентов на протяжении 3 дней перед визитом пропустили не менее 1 дозы RPV. Подсчет таблеток на 48-й неделе свидетельствовал о том, что показатель приверженности составил 97,5%.
В исследовании W. Jantarabenjakul и соавт. [18], проведенном с января по июнь 2016 г., приняли участие 20 ВИЧ-инфицированных подростков (12 мальчиков и 8 девочек) в возрасте 12–18 лет. Средний возраст составил 16 лет, вес – 49 кг. У больных, получавших АРТ на основе EFV, препарат был заменен на RPV (25 мг 1 раз в день). Через 4 нед. после переключения были взяты 24-часовые пробы крови на временных отрезках 0 (предварительная доза), 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 и 24 ч после приема дозы. Средние (СО) AUC24, C24 и Cmax RPV составили 2041 (745) нг×ч/мл, 69 (29) и 143 (65) нг/мл соответственно. По сравнению с опубликованными ранее данными исследований ECHO/THRIVE (применение RPV + TDF/TDF в сравнении с EFV + TDF/FTC у взрослых пациентов) фармакокинетические параметры RPV у ВИЧ-инфицированных подростков и взрослых не отличались. У всех подростков наблюдалась вирусологическая супрессия на 24-й неделе терапии. Уровень РНК ВИЧ был измерен на 12-й и 24-й неделях. Биохимические профили были измерены в начале и на 24-й неделе исследования. Отмечено значительное снижение уровня общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (р < 0,05).
Таким образом, у ВИЧ-инфицированных подростков с подавленной ВН прием RPV сопровождается сохранением вирусологической супрессии. Авторы заключают, что RPV может быть использован в качестве длительной поддерживающей АРТ у ВИЧ-инфицированных подростков.
Планирование лечения целой когорты детей и подростков необходимо осуществлять обдуманно и целенаправленно, основываясь, прежде всего, на клинических характеристиках АРТ. Если она метаболически неблагоприятна, у ребенка уже есть или в ближайшее время могут возникнуть изменения, несомненно, такую терапию надо менять и искать альтернативные схемы лечения. Очевидно, что в лечебном учреждении есть определенный запас препаратов, которые нужно рационально распределить среди пациентов. Однако каждый центр вправе запросить именно те препараты, применение которых он считает клинически благоприятным и обоснованным для этой особо уязвимой когорты пациентов.
В заключение необходимо отметить, что дети с ВИЧ-инфекцией – это особая группа пациентов. К ним нельзя относится так же, как ко взрослым, назначать АРТ без учета ее пожизненного статуса, не принимая во внимание того, что к 40–50 годам такие пациенты подойдут с огромным опытом лечения. Если оно изначально было выбрано неправильно, то с возрастом токсичность АРТ будет только усугубляться. Для ВИЧ-инфицированных детей и подростков следует выбирать метаболически благоприятные схемы с минимальной кратностью и частотой приема препаратов для достижения высокой эффективности, приверженности и безопасности на всем протяжении лечения.