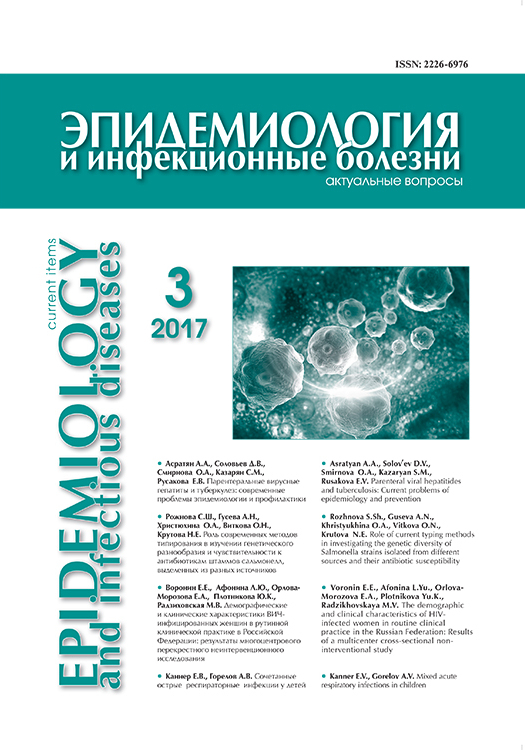Острые респираторные инфекции (ОРИ) являются серьезной проблемой здравоохранения во многих регионах мира в связи с их широкой распространенностью, они занимают ведущее место в структуре общей заболеваемости населения и являются наиболее частой патологией у детей. По данным ВОЗ, от ОРИ и их осложнений ежегодно умирают 4 млн детей в возрасте до 5 лет [1, 2]. Помимо возбудителей гриппа и респираторно-синцитиального вируса (РС-вирус) известны еще более 200 вирусов, вызывающих заболевания респираторного тракта и ЛОР-органов [3]. Вместе с тем очевидно, что в настоящий момент от 20 до 33% всех ОРИ в мире могут быть обусловлены сразу несколькими этиологическими агентами у одного пациента [2]. Так, у 23% больных с лабораторно подтвержденным гриппом был выявлен как минимум еще один респираторный вирусный патоген [4]. В связи с этим в научной среде и практическом здравоохранении отмечается повышенный интерес к сочетанным ОРИ.
Возможность одновременного участия в этиологии заболеваний нескольких возбудителей в настоящее время интенсивно изучается. Под сочетанной инфекцией подразумевается одномоментное течение двух и более инфекционных заболеваний различной этиологии у одного и того же больного. Заражение может быть одновременным несколькими (2, 3 и более) возбудителями (ассоциированная, сателлитная, микст- и коинфекция) или другая инфекция может наслаиваться на уже имеющееся инфекционное заболевание (суперинфекция). Полиэтиологичность возбудителей острых поражений органов дыхания в условиях свободных и многочисленных контактов, нестойкость и специфичность постинфекционного иммунитета определяют возможность возникновения высокой частоты респираторной инфекции сочетанной этиологии, особенно в стационарах и детских дошкольных учреждениях [5].
J.B. Mahony [6] проанализировал результаты нескольких исследований этиологической структуры ОРИ и установил, что к наиболее распространенным возбудителям относятся (в порядке убывания частоты выявления) риновирусы, вирусы гриппа, парагриппа, RSV, коронавирусы, метапневмовирусы, бокавирусы и аденовирусы. Из вирусно-вирусных ассоциаций возбудителей ОРЗ у детей чаще встречаются ассоциации нескольких серотипов вирусов гриппа, а также вирусов гриппа с возбудителями адено-, PC- и парагриппозной инфекции, при вирусно- бактериальных ассоциациях – сочетания аденовирусов с кокками (стрепто-, пневмо-, стафилококками), риновирусов и гемофильной палочки, различных вирусов с микоплазменной инфекцией [2].
Н.Н. Мазуник [7] убедительно показала, что пребывание детей в стационаре более 7 дней у 39,2% пациентов приводит к внутрибольничному инфицированию респираторными вирусами, особенно если они находились в палатах диагностического респираторного отделения [7].
Для сочетанных ОРИ характерна наиболее высокая частота регистрации в холодное время года, особенно в сезон высокой эпидемической активности PC-вируса и гриппа [7]. Основными путями заражения ОРИ, в том числе сочетанными, являются воздушно-капельный и контактный, причем последний более характерен для детских коллективов [8].
Наиболее высокая заболеваемость сочетанными ОРИ наблюдается у детей в возрасте до трех лет. Ассоциация инфекций особенно часто отмечается у детей раннего возраста, прежде всего у новорожденных, что можно объяснить разнообразием путей инфицирования (анте-, интра- и постнатальное инфицирование) и незрелостью иммунитета [9]. Как правило, ассоциированные инфекции протекают длительнее и тяжелее, при них чаще возникают осложнения. У детей с различной хронической патологией даже нетяжелая респираторная инфекция может стать причиной обострения хронического заболевания [7–9].
В последнее время увеличилась частота выявления сочетанных ОРИ, связанная, вероятнее всего, с широким использованием современного высокочувствительного метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Данный метод реально позволяет с первых часов заболевания получить исчерпывающую информацию о возбудителях, прогнозировать характер течения и исход заболевания, правильно назначить лечение [2, 7, 10]. При совершенствовании и более широком внедрении молекулярных методов верификации респираторных патогенов при ОРИ доля вирусных микст-инфекций, вероятно, возрастет. Благодаря внедрению метода ПЦР стал реальностью и факт совместного обнаружения новых и традиционных возбудителей ОРИ.
В связи с этим считаем уместным привести некоторые эпидемиологические и патогенетические особенности относительно новых ОРИ.
Коронавирусные инфекции. Коронавирусы (Coronavirus) входят в семейство Coronaviridae, не имеют оболочки и содержат одноцепочечную РНК. В 2002 г. был выявлен SARS-CoV – коронавирус, взывающий атипичную пневмонию или тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Пандемия SARS была зрегистрирована в 29 странах и привела к смерти 774 пациентов. SARS-CoV имеет зоонозное происхождение, передается человеку от летучих мышей, являющихся природным резервуаром. Вскоре были выявлены HCoV-NL63 и HCoV-HKU1, которые обычно вызывают гораздо более легкие респираторные заболевания по сравнению с атипичной пневмонией, однако данные инфекции обусловливают 10–20% случаев госпитализации детей раннего возраста и взрослых с ослабленным иммунитетом по поводу заболеваний дыхательных путей [11]. В 2013 г. в Саудовской Аравии, Великобритании, Франции, Германии, Тунисе и Италии отмечен ближневосточный респираторный синдром (MERS), вызванный новым коронавирусом MERS-CoV [12]. Этот вирус вызывает более тяжелое заболевание у людей с сопутствующими заболеваниями, при этом высока вероятность передачи данного вируса от человека к человеку.
Метапневмовирусная инфекция. В 2001 г. в Нидерландах был выделен новый вирус – метапневмовирус человека (hMPV), относящийся к РНК-содержащим вирусам. hMPV входит в семейство Paramyxoviridae. Вирионная РНК метапневмовируса кодирует 8 структурных и неструктурных белков: нуклеопротеин (N), фосфопротеин (Р), матриксный белок (М), белок слияния (F), фактор элонгации/транскрипции (М2), малый гидрофобный поверхностный белок (SH), поверхностный гликопротеин (G) и РНК-зависимую РНК-полимеразу (L). Выделяют основные генетические группы hMPV – А и В. Оба генотипа могут циркулировать параллельно во время эпидемии, но чаще один из них доминирует [13]. Метапневмовирусная инфекция имеет 2 сезонных подъема: первый начинается в ноябре, постепенно заканчивается к концу зимы, последовательно уступая место PC-вирусам, гриппу и парагриппу; второй – в мае, постепенно сменяя РС-вирусы [14]. Чаще всего метапневмовирусной инфекцией болеют дети первого года жизни. К 5 годам почти у 100% детей определяются антитела к этому вирусу. Тяжелые и среднетяжелые формы заболеваний, вызванных hMPV, встречаются в основном у детей первых лет жизни, пожилых людей и пациентов с иммунодефицитом [15]. hMPV вызывает преимущественно нетяжёлые формы заболевания, сопровождающиеся такими симптомами, как кашель, насморк, лихорадка, головная боль. У некоторых больных (19% случаев) отмечаются рвота и диарея [13]. На основании клинической картины верифицировать hMPV-инфекцию и отличить ее от других ОРИ достаточно трудно. Вакцины против hMPV и эффективные средства этиотропной терапии не разработаны, существует ограниченный опыт применения поликлональных внутривенных иммуноглобулинов и пероральных или аэрозольных форм рибавирина, но рекомендовать эти средства к широкому применению пока не представляется возможным.
Важно подчеркнуть, что в работе Е.Л. Евсеевой [14] впервые показано, что у каждого четвертого ребенка в Российской Федерации метапневмовирусная инфекция протекала как сочетаное заболевание, вызванное несколькими респираторными вирусами.
Бокавирусная инфекция. Еще один новый респираторный вирус, принадлежащий семейству Parvoviridae и получивший название «бокавирус человека» (hBoV), был открыт в 2005 г. в Швеции. Он относится к ДНК-содержащим вирусам, не имеет оболочки. Изменчивость выявлена в основном в области кодирования капсидных белков VP1/VP2 и представлена консервативными заменами [16]. В недавно проведенном исследовании T. Uršič и соавт. [17] с помощью молекулярных методов было выявлено, что hBoV занимает 3-е место по частоте выявления (после риновирусов и RSV) у детей, госпитализированных с диагнозом ОРИ. Чаще всего бокавирус выявляются у детей младше 5 лет, наиболее часто – у детей в возрасте от 6 мес. до 3 лет [18]. В возрастной группе до 1 года имеется тенденция к более легкому течению болезни, что, вероятно, связано с проникновением материнских антител через плаценту или с использованием грудного молока. Бокавирусная инфекция вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей. К основным клиническим формам поражения дыхательных путей относят ринит, острый катаральный средний отит, тонзиллит, фарингит, ларинготрахеит, пневмонию, бронхиолит, бронхит (в том числе обструктивный). В настоящее время какая-либо специфическая терапия бокавирусной инфекции отсутствует, так как из-за отсутствия животной модели и универсальной клеточной культуры разработка вакцины затруднена
По данным Е.Ю. Швец [18], наиболее часто сочетанное течение бокавирусной инфекции с другими ОРИ отмечали у детей в возрасте до 3 лет, в осеннее время (ноябрь). В целом сочетанная бокавирусная инфекция диагностируется у 11% детей.
Общепризнанно, что в развитии тяжелых форм сочетанной инфекции решающую роль играют состояние иммунитета и факторы неспецифической резистентности организма ребенка, так как вирусы обладают рядом молекулярных механизмов, позволяющих противостоять противовирусной защите человека. Ведущим механизмом в противовирусной защите является система интерферонов (ИФН), которые обладают широким спектром антивирусной активности. Вместе с естественными киллерами они нарушают любой из этапов репродукции вирусов до появления специфических антител, оказывают антипролиферативное и иммуномодулирующее действие [2,19]. Респираторные вирусы обладают различной интерфероногенной активностью. Например, белок NS1 возбудителя гриппа блокирует на разных уровнях каскад, ведущий к активации генов ИФН типов I и III и других цитокинов, обладающих опосредованной противовирусной активностью. Вирусные протеины PB2 и PB1-F2 ограничивают продукцию ИФН-β, связывая митохондриальный противовирусный сигнальный белок (MAVS). Протеин PAX подавляет экспрессию генов хозяина, участвующих в инициации клеточного иммунного ответа. NP ингибирует действие протеинкиназы R, которая связывает вирусную РНК, уменьшая образование двухцепочечной РНК. Белок M2 подавляет апоптоз зараженных клеток, увеличивая высвобождение и распространение вирусных частиц. Вирусы гриппа также нарушают сигналы, проводимые через рецепторы ИФН-α/β [20].
Неструктурные белки РС-вируса NS1 и NS2 также оказывают иммуносупрессивное действие. NS1 подавляет фосфорилирование IRF-3 и нарушает его связь с промоутером гена ИФН, а также индуцирует протеосомальную деградацию STAT2. NS2 также вызывает деградацию STAT2, снижает уровень фактора 3, ассоциированного с рецептором фактора некроза опухоли, взаимодействует с RIG-I, что в совокупности ведет к подавлению синтеза ИФН типов I и III. Оба неструктурных белка РС-вируса подавляют апоптоз инфицированных клеток, потенцируя репродукцию вируса.
Вирусы парагриппа и hMPV блокируют внутриклеточные реакции, ведущие к выработке ИФН типов I и III, а также противовирусные сигналы, индуцированные этими цитокинами [2, 11].
Входными воротами для возбудителей вирусных инфекций является респираторный тракт, поэтому первичную иммунную реакцию при ОРИ обеспечивают макрофаги и секреторный иммуноглобулин А (IgА). В ряде исследований [2, 8] было показано, что суперинфекции развиваются чаще именно у детей с низким содержанием сывороточного и секреторного IgA. Вместе с тем следует констатировать, что приведенные сведения носят фрагментарный характер, и до настоящего времени нет четкого понимания патогенеза развития заболеваний при сочетанных инфекциях.
Клинические особенности респираторных микст-нфекций
Н.Н. Мазуник в своем исследовании [7] выявила некоторые закономерности течения сочетанных ОРИ у детей. Так, было доказано, что при одновременном присутствии у больного в качестве этиологических агентов PC-вирусов и аденовирусов клиническая картина болезни имела иные клинические характеристики, чем при соответствующих моноинфекциях: постепенное начало заболевания с субфебрильной температуры, более частое и длительное течение ринита, более продолжительный сухой кашель, дольше сохраняющиеся влажные хрипы в легких у пациентов при аускультации. Среди клинических форм у этих больных преобладали обструктивный бронхит и острый бронхит. При сочетании PC- и риновирусов достоверно чаще отмечали субфебрильную температуру, продолжительный ринит, непродуктивный кашель, смешанную одышку, обструктивный бронхит и дыхательную недостаточность.
При сочетанном выявлении PC-вирусов и вирусов гриппа заболевание протекало с признаками воспалительных поражений нижних дыхательных путей в тяжелой форме: наличие фебрильной температуры или гипертермии, к которым часто присоединялись бактериальные осложнения. При совместном выявлении PC- и коронавирусов чаще регистрировали как субфебрильную температуру, так и гипертермию, умеренную одышку смешанного характера, дыхательную недостаточность. При данном сочетании вирусов преобладали обструктивный и острый бронхит. При одновременном обнаружении аденовирусов и вирусов гриппа чаще отмечали тяжелые формы инфекции с гипертермией, длительным непродуктивным кашлем, чаще встречались острый бронхит и ангина (лакунарная и фолликулярная).
Клиническая картина сочетанных «новых» респираторных инфекций (бока- и метапневмовирусной инфекции) при этом мало отличалась от соответствующих моноэтиологичных заболеваний [14,18].
Анализ данных литературы позволяет заключить, что при сочетанных, как впрочем и при моновирусных инфекциях, этиотропная химиотерапия не так успешна, как при бактериальных заболеваниях. Явный прогресс к настоящему времени достигнут в лечении герпесвирусных инфекций, вирусных гепатитов и ВИЧ/СПИДа, но в отношении большинства ОРИ на сегодняшний день не существует высокоэффективных и безопасных химиопрепаратов [2]. При ОРИ одними из наиболее широко применяемых в амбулаторной клинической практике средств патогенетической терапии являются лекарственные препараты, воздействующие на иммунную систему, среди них у детей достаточно часто применяются препараты ИФН. Их преимуществом является высокая иммунотропная активность, недостатком – достаточно разностороннее действие на организм, что обусловливает возможность развития разнообразных побочных эффектов [2, 7, 21]. Еще одной группой иммунотропных препаратов, которые имеют определенные перспективы для применения в педиатрической практике, являются бактериальные лизатоты. Бактерии и продукты их жизнедеятельности и распада являются естественными стимуляторами и регуляторами иммунной реактивности человека. Препараты этой группы можно успешно применять и при проведении профилактических мероприятий в период высокой сезонной заболеваемости ОРИ, и как компонент комплексного лечения.
В заключение стоит отметить, что проблема диагностики и лечения сочетанных инфекций у детей в настоящее время остается остроактуальной. Разнообразие и открытие новых респираторных вирусов, их изменчивость, быстрое формирование штаммов, резистентных к противовирусным средствам и модифицирующих адаптивные иммунные реакции у человека, приводят к возрастанию частоты вирусных микст-инфекций, что диктует необходимость разработки и внедрения новых алгоритмов диагностики и лечения.