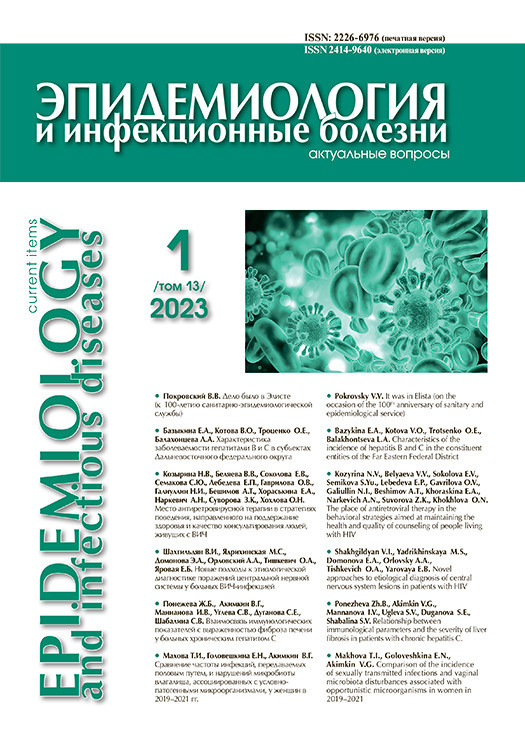Если с путем передачи ВИЧ от ребенка ребенку при проведении парентеральных манипуляций все было очевидно, то оставался необъясненным факт заражения их матерей. Было очень странно, что молодые женщины, не имевшие никаких рисков заражения, не получавшие никаких инъекций в стационарах, где заражались ВИЧ их дети, были инфицированы ВИЧ. Наркотики никто из них не употреблял. Самым вероятным путем заражения был половой, но их мужья, за исключением одного, который заразился ВИЧ в Конго и был первичным источником вспышки, были серонегативны.
Конечно, напрашивалась мысль, что женщины заразились половым путем не от мужей, и эпидемиологи усердно требовали от этих женщин назвать скрываемых половых партнеров. Дошло до смешного: одна из них, кажется мать умершего ребенка, которую первой обнаружили, когда она пришла сдавать кровь как донор, привела под видом полового партнера своего двоюродного брата, но когда я сам стал его расспрашивать, то мне сразу показалось, что он как-то подозрительно весел. Когда я стал выяснять подробности, он быстро рассмеялся, сообщив, что женщина уговорила его изображать любовника только для того, чтобы от нее «все отстали». Тут я вспомнил доктора Пакториса, который якобы требовал от женщин признаний, доказывающих половой путь передачи ВГВ. Но тут был явно другой случай.
Я предположил, что мы идем по неправильному пути, и стал лично опрашивать всех этих женщин. К одной из них пришлось полдня ехать в далекий совхоз, где она работала бухгалтером. Эта интеллигентная женщина рассказала мне, что она одинока и поэтому забеременела от специально подобранного ею мужчины, у которого уже было четверо здоровых детей, и который любезно согласился помочь ей в этом деликатном деле. Этот мужчина, как показали предшествующие исследования, тоже не был инфицирован ВИЧ. Однако родившийся от него долгожданный ребенок вскоре заболел, и они с матерью попали в больницу. На мой вопрос, что сама женщина думает о том, как могла заразиться, она сразу ответила, что предполагает, что заразилась, когда кормила грудью своего больного малыша, у которого был сильный стоматит, и поэтому ее соски были постоянно измазаны кровью. И добавила: «Я еще тогда подумала, не заражусь ли я от него чем-нибудь». Действительно, кормление ребенка по длительности контакта покровов никак не уступает половому акту, при котором происходит заражение, а некоторые дети еще и кусают соски матери. К тому же я уже заметил, что женщины в Калмыкии кормили детей грудью довольно долго.
Эта неожиданная версия потребовала тщательной проверки. Сразу пришлось исключить ВИЧ-позитивную женщину, единственную, у кого был инфицирован муж, побывавший в Конго, и еще трех матерей, которые получили хотя бы одну инъекцию в стационаре. После подробного анкетирования оставшихся ВИЧ-инфицированных женщин без выявленных факторов риска заражения выяснилось, что все они кормили детей грудью уже после того, как их дети побывали в очагах заражения ВИЧ. В то же время среди женщин, совсем не кормивших детей грудью или прервавших грудное вскармливание до госпитализации детей или после совместного пребывания в больнице вместе с другими инфицированными детьми, ВИЧ-позитивных не оказалось. К тому же из историй болезни мы выяснили, что в парах «инфицированная мать и ее ребенок» у всех детей был зафиксирован кандидозный стоматит, являющийся типичным проявлением временного иммунодефицита, развивающегося в фазе острой ВИЧ-инфекции. Специальных историй болезни для госпитализированных с детьми матерей в больнице не заводили, но в историях болезни детей было отмечено, что их матерям выписывали масло шиповника, предназначенное для лечения трещин сосковой области. Учитывая, что в острый период ВИЧ-инфекции у детей в крови должно было быть высокое содержание ВИЧ, особых сомнений в том, каким путем произошло заражение женщин ВИЧ, у нас уже не было. Были обнаружены и фактор передачи – кровь ребенка, и входные ворота инфекции – трещины сосковой области.
Многим эпидемиологам не понравилось, что Покровский открыл «какой-то новый путь передачи инфекций». Из скромности успокою их: анализ литературы показал, что передача возбудителя от ребенка кормящей женщине – это отнюдь не новый, а забытый путь. Кажется в популярной книге Э. Фукса «История нравов», которая, правда, не является научным источником, я вычитал, что в Европе этот путь передачи сифилиса был некогда хорошо известен и даже обусловливал возникновение крупных вспышек. Как известно, для того чтобы препятствовать детоубийству, в средневековом обществе сложилась практика организации специальных приютов при женских монастырях. Но возникала проблема их выкармливания, поэтому детей, которых несчастные матери подбрасывали в монастыри, кормили грудью специально нанимаемые монашками женщины. После начала эпидемии сифилиса в начале ХVI века, когда, по одной из теорий, сифилис был завезен из недавно открытого Нового Света, эти кормилицы стали часто заражаться от детей сифилисом, что было вполне объяснимо, так как детей в монастыри часто подбрасывали блудницы, вероятность заражения которых сифилисом была высокой. Заразившиеся от этих детей кормилицы передавали сифилис своим мужьям, после чего эпидемический процесс поддерживался половым путем.
Вскармливание детей кормилицами широко практиковалось по всей Европе вплоть до начала ХХ века. Богатые дамы быстро избавлялись от забот о новорожденных, передавая их кормилицам. Например, известная всем Арина Родионовна изначально была кормилицей старшей сестры великого поэта. Гулящие девушки обыкновенно отправляли своих новорожденных в деревню, где их докармливали родственницы или нанятые женщины. Убедительные данные о роли грудного вскармливания в передаче сифилиса в России приводятся в знаменитой энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Там в главе «Сифилис» [1] сообщается, что заражение женщин сифилисом при кормлении грудью в России наблюдалось в конце ХIХ века примерно в 1,8% всех случаев заболевания. И даже дается любопытная противоэпидемическая рекомендация: «Если мать не может кормить своего сифилитического ребенка, то можно отдать его сифилитической кормилице, но никак не здоровой». Русские врачи и передовая общественность осуждали использование кормилиц как вид эксплуатации, приносящий ущерб собственному ребенку кормилицы, а также боролись за материнское вскармливание как более естественное и полезное. Но смертельный удар по профессии кормилиц нанесло производство искусственных смесей для питания детей, и уже к середине ХХ века об этом пути передачи сифилиса стали забывать.
Наше исследование подтвердило, что все новое – это хорошо забытое старое, хотя о возможности передачи ВИЧ таким же путем, как возбудителя сифилиса, было трудно предполагать. Несомненно, что сифилис в определенных стадиях значительно более заразен, чем ВИЧ-инфекция, и описано много случаев бытового заражения сифилисом. Но следует учесть, что дети во внутрибольничных очагах были заражены ВИЧ незадолго до того, как их кормили грудью, поэтому и концентрация ВИЧ в их крови была максимальной. Более детально я разбираю этот эпизод в своей монографии [2]. По сведениям, которые содержатся в нашей базе данных «Архив эпидемиологических данных об обследовании населения на ВИЧ, выявленных ВИЧ-позитивных лицах и больных СПИДом в Российской Федерации (АСОДОС)», удалось установить, что всего в России при грудном вскармливании детей, зараженных ВИЧ во внутрибольничных очагах в 1988–1989 гг., заразились 22 женщины.
Несколько раньше в США был описан случай передачи ВИЧ от зараженного при переливании крови грудного ребенка ухаживающей за ним матери [3], который авторы считали «очевидным» случаем бытовой передачи. Однако они не упомянули, кормила ли мать ребенка грудью. Возможно, что женщина заразилась таким же путем, но главным аргументом против этого является то, что в этот период в США подавляющее большинство женщин кормили младенцев искусственными смесями, что позднее сочли вредным явлением.
Позднее наше наблюдение подтвердили другие исследователи внутрибольничных вспышек ВИЧ-инфекций. В обзорной публикации [4] собраны данные о 5 очагах внутрибольничной передачи ВИЧ, где также были выявлены случаи заражения ВИЧ женщин при грудном вскармливании младенцев, инфицированных при оказании медицинской помощи в Румынии, Ливии, Казахстане и Киргизии.
Интересно, что спустя несколько лет пострадавшие в подобной вспышке киргизские женщины обращались ко мне с просьбой послать специальное объяснение причины их инфицирования ВИЧ для их чрезвычайно озабоченных мужей, сомневавшихся в том, как заразились их жены. Я послал им все доступные материалы, но не знаю, помог ли мой ответ сохранить их семьи.
Подводя итоги изучения элистинской вспышки, должен заметить, что заблуждаются те, кто думает, что уровень передачи ВИЧ в больницах Калмыкии был высоким. Это даже можно было бы назвать не вспышкой, а тлением эпидемического процесса. Вирус в больницах Калмыкии распространялся в течение 7 месяцев, и за это время заразилось, даже с учетом всех умерших, только около 3–4% контактных по совместному пребыванию в больницах детей. И не введи мы в 1987–1988 гг. систему эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией, выявить этот тлеющий очаг на этой стадии вряд ли было бы возможно. К чему это тление могло привести, нетрудно себе представить, тем более что зараженных детей уже начали переводить в больницы соседних регионов, где скрытая передача ВИЧ продолжалась еще долго. От инфицированных при грудном вскармливании женщин должны были рано или поздно заразиться их мужья, и начался бы новый цикл передачи ВИЧ. По счастью, нам удалось это предотвратить.
Когда мы уже собрались возвращаться в Москву после второй поездки в Калмыкию, произошло событие, которое невозможно было представить в предыдущие годы, да и теперь оно представляется маловероятным. Но это было время «гласности», объявленной М.С. Горбачевым. Нас пригласили к местному министру здравоохранения, которому я доложил о результатах расследования. А вечером нам предложили сделать запись для местного телевидения. В маленькой студии, располагавшейся в каком-то похожем на ангар здании, присутствовал министр здравоохранения Калмыцкой АССР. Как можно более осторожно я сказал, что имеет место внутрибольничное заражение детей. Возможно, министр рассчитывал на что-то другое, но не сказать правды я не смог. «Правду говорить легко и приятно», как выражался всеми узнаваемый персонаж в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Но потом я, конечно, сильно переживал, так как понимал, какие последствия могут иметь мои слова. Эту запись обещали показать вечером на местном телевидении, но скоро я с некоторым облегчением узнал, что ее сняли с эфира. Я упокоился и утром в рабочем настроении улетел в Москву.
Каково же было мое изумление, когда на следующий день вечером на первом канале в программе «Время», которую тогда смотрели почти все жители СССР, была показана запись главной части моего выступления. В то время дистанционной передачи записей, как мне кажется, еще не было, вероятнее всего пленку с записью вывез кто-то из работников студии. А так как тогда в России гласность понимали как раскрытие перед обществом всех наших проблем, эту запись сразу поставили в эфир.
На следующее утро я, готовый к самому худшему сценарию, уже объяснял обеспокоенному начальству, что телезапись была инициирована калмыцким руководством, но снята с местного показа, а каким образом она попала на центральное телевидение, мне не известно, но вряд ли что-то могли показать в программе «Время» без одобрения высоких инстанций .
Но пока реакция «сверху» была неясной, осторожный Наркевич сразу же дал интервью популярной тогда газете «Советская Россия», что, мол, «ничего окончательно не известно». Он потом объяснял это необходимостью спустить дело на тормозах.
Сотрудники Министерства здравоохранения РСФСР восприняли ситуацию очень болезненно, так как здравоохранение Калмыцкой АССР было в их ведении. Они прямо и открыто не опровергали наши выводы, но ставили их под сомнение в общении с представителями регионов, высказывая свои версии. Подозреваю, что из-за этого на многих территориях меры по прерыванию внутрибольничной передачи проводились медленнее, чем было необходимо, что привело к задержке противоэпидемических мероприятий почти на полгода. В Элисте последнее заражение ребенка ВИЧ в больнице датировалось январем 1989 г., оно произошло не позднее, чем через несколько дней после нашего первого приезда. И это подтверждало связь распространения ВИЧ с выявленными нарушениями. А в Ростове и других городах из-за «сомнений» начальства порядок в стационарах наводили довольно долго, там последние случаи заражения детей относились к середине 1989 г. Понятно, что никому не было приятно согласиться с тем, что одни и те же нарушения противоэпидемического режима происходят по всей России. Но были довольно показательные частные признания. Например, заведующий отделением детской больницы в Волгограде, в котором происходила передача ВИЧ, признал, что он и его подчиненные повторно используют нестерилизованные инструменты, но комментировал дело так: «Мы же всегда это делали, но никакого СПИДа не было!».
Если взглянуть на карту, то все остальные города, где были зафиксированы случаи заражения детей ВИЧ, располагаются вокруг Элисты. Детей с неясными заболеваниями отправляли из Элисты преимущественно в Волгоград и Ростов-на-Дону, где работали самые квалифицированные специалисты этого региона. Больница в Ростове стала очагом, из которого иногородние дети возвращались в свои города уже зараженными ВИЧ. Однако расследование в остальных очагах, кроме Калмыкии, проводили комиссия Минздрава РСФСР и местные эпидемиологи; по понятным причинам меня к ним не привлекали. Но я не завидую тем, кто там работал: из-за поднятого «шума и пыли» все заинтересованные лица уже знали о внутрибольничной передаче ВИЧ и предпринимали меры, которые считали необходимыми. Многие документы бесследно исчезли: в одном месте они якобы погибли от пожара, в другом –от наводнения. Собрать все данные по госпитализированным детям было очень трудно, многие выпали из поля зрения исследователей. Напуганные родители детей, побывавших в стационарах, часто наотрез отказывались от обследования, утверждая, что их дети никогда в больнице не были. По этим причинам некоторые инфицированные ВИЧ дети были обнаружены только через несколько лет, с чем связано постоянное расхождение в публикуемых цифрах о числе пострадавших. По данным, собираемым нами с 1987 г. в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в архиве данных «АСОДОС», в Калмыкии было выявлено 73 случая ВИЧ-инфекции у детей, связанных с заражением в обнаруженных внутрибольничных очагах; в Ростовской области (в Ростове-на-Дону и Шахтах) всего было обнаружено 106 таких случаев, в Волгоградской области – 59, в Ставропольском крае – 16, в Чеченской АССР – 9, в Дагестане – 4, в Краснодарском крае – 3 и по 1 случаю в Астрахани, Кирове, Алтайском крае и на Камчатке. Обнаружение последних из перечисленных случаев в весьма отдаленных от Элисты городах было обусловлено перемещением семей зараженных детей на другие места жительства.
В Ростовской области зараженных ВИЧ в больничных очагах детей обнаруживали в течение 9 лет, причем двух последних, которые к этому времени уже повзрослели, – только в 1998 г. Это показывает, что эпидемиологическое расследование в выявленных в 1989 г. очагах было проведено недостаточно полно, и не исключено, что доводить его до конца не очень стремились. В заинтересованных кругах придумывали альтернативные версии заражения детей, которые не были связаны с нарушениями противоэпидемического режима. Среди конспирологических версий о причинах вспышки ВИЧ на Юге России особой популярностью до сих пор пользуются рассказы о том, что все пострадавшие были заражены контаминированным ВИЧ иммуноглобулином (эта байка прослеживается и в фильме «Нулевой пациент»).
Однако эта гипотеза совершенно не выдерживает критики, так как только некоторые инфицированные ВИЧ дети когда-либо получали иммуноглобулин, а подавляющее большинство зараженных детей никогда его не получали. К тому же еще в начале изучения эпидемии американцы показали, что ВИЧ не передается даже при введении иммуноглобулина, изготовленного из крови заведомо инфицированных ВИЧ доноров, хотя в иммуноглобулине и сохраняются антитела к ВИЧ [5, 6]. Несмотря на это в 1987 г. в СССР иммуноглобулин уже проверяли на наличие антител к ВИЧ, и те серии, где была получена положительная реакция, никогда не использовали и уничтожали.
«Иммуноглобулиновая» версия до сих пор упорно поддерживается в кулуарах теми врачами и работниками эпидемиологической службы, которые были прямо или косвенно виноваты в том, что нарушения противоэпидемического режима в стационарах не были своевременно выявлены и пресечены. И их можно понять: если причиной заражения был бы иммуноглобулин, то в возникновении вспышки виноваты были бы не они, а производители иммуноглобулина, которые в то время были в подчинении другого ведомства – Министерства медицинской промышленности.
Альтернативные гипотезы появлялись в интервью для СМИ, но ни одной научной публикации, которая опровергла бы внутрибольничное заражение детей ВИЧ в очагах на Юге России, происходившее из-за нарушений противоэпидемического режима, так и не появилось. А спустя много лет, когда я уже избирался в члены-корреспонденты РАМН, мою кандидатуру поддержал Анатолий Петрович Потапов, который во времена вспышки в Элисте был министром здравоохранения РСФСР. Он высказался в мою поддержку весьма оригинально: «Когда была вспышка в Элисте, уж мы его ломали, ломали, но он так и не отступился!». Не всякий руководитель может признать, что когда-либо был не прав.
Если объективно оценивать ситуацию в Калмыкии, то местные специалисты продемонстрировали хороший профессиональный уровень. Благодаря их правильным действиям было обнаружено внутрибольничное распространение ВИЧ: станция переливания крови не пропустила зараженного ВИЧ донора, опытный детский врач первым заподозрил ВИЧ-инфекцию у ребенка, лабораторный работник правильно сделал анализы, о выявленных случаях было своевременно сообщено в центральные инстанции. Эпидемиологи и врачи проделали огромную работу по локализации вспышки. А распространение ВИЧ в больницах было обусловлено не местными особенностями, а общероссийскими проблемами, которые именно калмыцкие специалисты помогли выявить.
Однако по неписанному закону бюрократии о наказании невиновных и награждении непричастных результаты нашей работы имели для начальников из Калмыкии самые негативные последствия: было отстранено от работы руководство больниц и всего здравоохранения Калмыкии, и даже заменен председатель Совета Министров Республики. Для руководителей в Элисте эта история обернулась драмой, а возможно и трагедией. Произошла рокировка в республиканском руководстве , что, конечно, затронуло много семей. Один из местных деятелей посоветовал мне больше в Калмыкию не приезжать: «Конечно, Вы спасли наших детей от заражения, но слишком уж много хороших людей из-за этого пострадало...».
Медицинские сестры, работавшие в отделениях, где происходило заражение ВИЧ, попали под следствие, которое длилось несколько лет, что само по себе было для них тяжелым испытанием. В то же время следователям было очень трудно доказать, что какая-то определенная сестра заразила конкретного ребенка, а так как коллективная уголовная ответственность у нас не предусмотрена, судебные разбирательства тянулись долго и переходили из одной инстанции в другую. Интересно, что гражданские процессы по компенсации потерь зараженным детям и их родственникам продолжаются и сейчас. Подробностей всех этих процессов я не знаю, так как не особенно интересовался этими делами, поскольку наказание этих сестер не имело никакого значения для профилактики передачи ВИЧ, ведь такие нарушения имели место если не повсеместно, то во многих больницах России. Возможно, виноваты были и те, кто этих сестер неправильно обучал. А для нас главным было выявить и прервать этот путь передачи в масштабах страны.
Надо сказать, что наши медики сравнительно легко отделались. Например, во Франции директор Национального Банка Крови, допустивший переливание не проверенной на ВИЧ крови, угодил в тюрьму. Еще более тяжелая ситуация возникла в Ливии. В конце 90-х ко мне неожиданно приехал посол Болгарии в Москве и попросил у меня материалы по элистинской вспышке, необходимые для того, чтобы защитить болгарских сестер, которые работали в детской больнице в Ливии и которых ливийские власти обвиняли в преднамеренном заражении детей во время аналогичной вспышки в г. Бенгази. Но наши заключения, видимо, не сыграли решающей роли, так как вспышка ВИЧ в больнице Бенгази быстро приобрела политическое значение. С одной стороны, тогдашний лидер Ливии Муаммар Каддаффи не мог признать, что в больницах его страны происходит передача ВИЧ из-за небрежности медицинского персонала, а с другой стороны, он хотел использовать обвинение болгарских сестер в далеко идущих политических целях, ведь, по его версии, они заражали детей ВИЧ по заданию ЦРУ США. Несчастных болгарских женщин сначала приговорили к смертной казни, но потом, после протестов и ходатайств мировой общественности, все же отпустили в обмен на какие-то значительные политические преимущества.
Что касается пострадавших от ВИЧ-инфекции в Элисте, то бывший моряк, заразившийся в Конго, и его жена умерли от СПИДа через несколько лет. Возможно, их гибель ускорила психологическая травма, связанная со следствием и всей возникшей вокруг них трагической ситуацией. Дальнейшая судьба инфицированных ВИЧ детей была во многом обусловлена их состоянием к моменту заражения: дети, имевшие тяжелый преморбидный фон, к которому добавились ВИЧ-инфекция и сопутствующие ей заболевания, вскоре умерли. Но многие дожили до применения современной антиретровирусной терапии и живы поныне, а некоторые, принимавшие необходимые препараты, родили здоровых детей.
Неприятным моментом были острые проявления неприязни населения по отношению к ВИЧ-позитивным детям и их родителям. Были даже жалобы, что и от всех жителей Калмыкии в других регионах шарахались. Калмыки очень переживали ситуацию, им казалось, что обнаружение ВИЧ – это очередное проявление дискриминации по национальному признаку. Народный поэт Давид Кагультинов, например, утверждал, что «СПИД – это наследие проклятого сталинизма». В период распада СССР обострялись и межнациональные взаимоотношения: некоторые калмыки особо подчеркивали, что ВИЧ в Калмыкию завез представитель «не местной» национальности.
Но наша работа в Элисте в целом имела и большие позитивные последствия. Несомненно, значительно улучшился противоэпидемический режим во всех медицинских учреждениях страны, где с таинственной передачей ВГВ все почти уже смирилась. Заболеваемость гепатитом В снизилась с 25,1 на 100 тыс. населения в 1989 г. до 21,9 – в 1990 г., а к 1992 г. даже до 18,5. И это снижение, как пишут корифеи эпидемиологии «... явилось результатом большой работы по профилактике ВИЧ-инфекции» [6]. Падение заболеваемости более чем на 25% было одновременно и подтверждением наших выводов о причинах внутрибольничной вспышки ВИЧ-инфекции, которые стали вкладом в борьбу с гепатитами и другими заболеваниями, возбудители которых передаются парентеральным путем при оказании медицинской помощи.
Правда, в середине 90-х годов заболеваемость ВИЧ и гепатитами стала вновь расти, и по законам диалектики этот подъем был в некоторой степени связан с элистинской вспышкой. Дело в том, что после обнародования сведений о внутрибольничной вспышке в Элисте в обществе сложилось мнение, что главной ее причиной было отсутствие в больницах одноразовых пластиковых шприцев. Среди политиков и бизнесменов стало модным закупать их за рубежом и дарить медицинским учреждениям. Даже Б.Н. Ельцин свой гонорар от выступлений в США потратил будто бы на пластиковые шприцы. А скоро их стали и у нас производить в огромных количествах. Хотя я много раз призывал производить не простые пластиковые шприцы, а разрушающиеся после одного использования, никто из производителей на это так и не пошел, ведь это усложняло производство и повышало себестоимость. Полагаю, что внедрить такие шприцы в России можно будет только директивными методами.
Но широкое производство одноразовых пластиковых шприцев обернулось тем, что наркопотребители, которые раньше кипятили стеклянные шприцы в бытовых условиях, в 90-е годы вооружились пластиковыми и теперь никаких стерилизационных процедур делать уже не могли. В европейских странах эту проблему пытались решить снабжением наркопотребителей чистыми шприцами и специальными наборами для химической обработки шприцев и игл, но у нас эти меры предпринимались в очень ограниченном масштабе, так как многие сочли их подстрекательством к потреблению наркотиков. Число внутривенных наркоманов в 90-е годы в России быстро росло, а повторно используемые ими без какой-либо стерилизации шприцы и иглы стали одним из главных факторов передачи как ВИЧ, так и ВГВ и ВГС. В 2001 г. мы зафиксировали 87 000 случаев заражения ВИЧ, 90% из которых были связаны с внутривенным употреблением наркотиков. К настоящему времени до 30% состоящих на учете больных, потреблявших наркотики внутривенно, уже заражены ВИЧ и являются резервуаром ВИЧ-инфекции, из которого она распространяется среди остального гетеросексуального населения. А с постоянным увеличением числа потенциальных источников растет и риск передачи ВИЧ при оказании медицинской помощи. По всей видимости, наблюдается и ослабление контроля за соблюдением противоэпидемического режима в стационарах: если за период с 1995 по 2008 г. мы обнаружили только 11 случаев заражения ВИЧ, вероятно, связанных с передачей ВИЧ от пациента пациенту, то с 2009 по 2021 г. – более 80. Возможно, субъективными негативными факторами, сопутствующими нарушениям, являются уверенность персонала, что ВИЧ-инфицированные пациенты не поступают в стационары благодаря предварительному тестированию госпитализируемых больных, а также то, что медицинский персонал, помнящий опыт Элисты, постепенно заменяется на новый, часто менее подготовленный. Насколько будут эффективны меры, принятые Роспотребнадзором в связи с обнаруженным ростом числа подозрительных на внутрибольничную передачу ВИЧ и ВГС от пациента пациенту случаев, покажут дальнейшие наблюдения.
Важным результатом нашей работы в Элисте стало то, что министр здравоохранения СССР Евгений Иванович Чазов быстро оценил угрозу ВИЧ-инфекции и уже летом 1989 г. издал приказ об организации Центров по профилактике и борьбе со СПИДом во всех союзных республиках СССР, а также распорядился о создании Всесоюзного Центра на базе Центрального НИИ эпидемиологии Минздрава СССР. Через пару месяцев и Минздрав РСФСР издал приказ об организации Республиканского и территориальных центров по борьбе со СПИДом во всех административных регионах России. Во всех территориальных образованиях страны были созданы комитеты по борьбе с ВИЧ-инфекцией с привлечением в них представителей многих ведомств. Таким образом, в СССР впервые в мире была создана вертикальная структура организаций, ответственных за противодействие ВИЧ-инфекции. Насколько это решение было правильным и своевременным, можно спорить, но центры по профилактике и борьбе со СПИДом проработали уже дольше 30 лет. Правда, их деятельность теперь не вполне соответствует первоначальному предназначению и названию: они мало занимаются профилактикой и скорее функционируют как специальные поликлиники для людей, живущих с ВИЧ. За 30 прошедших лет произошла и общая деградация всей некогда централизованной системы по профилактике и борьбе со СПИДом, при этом число зараженных ВИЧ россиян уже значительно превысило миллион.
Обнаружение вспышки ВИЧ-инфекции на юге России повлияло также и на решение Правительства СССР выделить очень большое финансирование (1 млрд руб.) на развитие научных исследований по ВИЧ-инфекции, поэтому уже в 1989 г. во многих научных учреждениях страны стартовали работы по созданию вакцин для профилактики ВИЧ-инфекции, разработке лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфекции и производству отечественных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции. К сожалению, в последующие трудные годы такого внимания Правительства научные исследования по ВИЧ-инфекции уже не привлекали.
Наше исследование имело и существенное значение для понимания проблемы ВИЧ-инфекции в целом. Этот небольшой в масштабах пандемии эпизод, в котором произошло заражение ВИЧ ни в чем не повинных детей, неопровержимо показал, что ВИЧ-инфекция не является болезнью одних только презираемых благополучным обществом меньшинств, а угрожает всем и каждому.