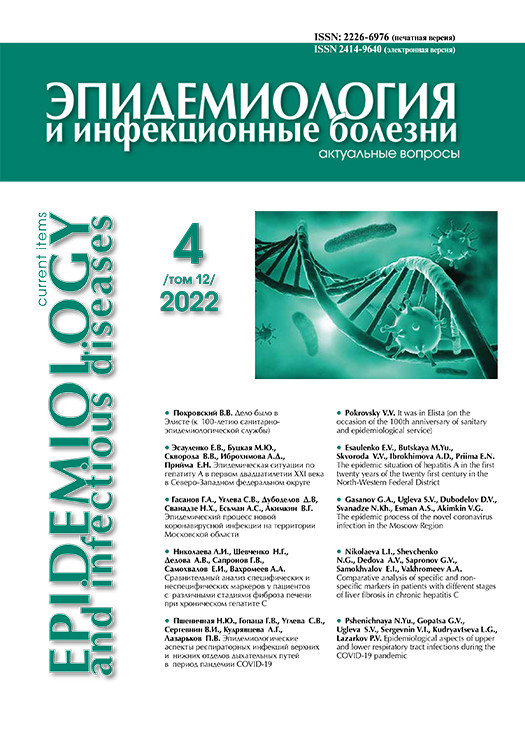Помню, как 3 января 1989 г. мы прилетели в столицу Калмыкии Элисту на маленьком турбореактивном ЯК-42 и сошли по трапу, расположенному под хвостом самолета. Очень скоро Элиста прославилась на весь мир тем, что по инициативе первого главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова она должна была стать мировой шахматной столицей. Но это произошло через несколько лет, а тогда была серая зима, и под снегом особых степных красот было не видно.
К тому же голова была занята эпидемиологическим расследованием. Исходная версия о внутрибольничной передаче ВИЧ казалась очень правдоподобной, однако следовало исключить все другие варианты, вплоть до самых неожиданных, связанных с возможными особенностями этой глубинной территории. Не странно ли обнаружить вспышку ВИЧ на территории, находящейся так далеко от границ СССР? Но и Армавир, где распространял ВИЧ первый выявленный больной ВИЧ/СПИД, находился от Элисты не далее чем в 400 км. Нет ли здесь связи?
Зная о роли связанных с религией и этнографией факторов в передаче инфекционных агентов, я, конечно, не исключал, что они могут как-то влиять и на передачу ВИЧ. Например, процедуры, предшествовавшие погребению умерших, в частности, ритуальное обмывание покойников, обязательное по одной из мусульманских традиций, сыграло очень большую роль в распространении недавно выявленного тогда вируса Эбола. Но тогда страдали мужчины, так как процедуру должен делать старший в семье мужчина. А при ритуальном поедании умерших родственников в распространении болезни Куру, наоборот, женщины подвергались большему риску заражения, так как они готовили ритуальные блюда, в частности, запекали в бамбуковых трубках мозги умершего. А из известных мне обычаев, связанных с детьми раннего возраста, кроме обрезания мальчиков, наиболее запомнился мне упомянутый В.И. Покровским странный обычай посыпать пупок новорожденных землей, что приводило к высокой заболеваемости столбняком [1]. Не могло ли иметь место нечто неординарное и в Калмыкии? К этому времени мы уже установили, как ВИЧ не передается, но, может быть, есть еще неизвестные пути передачи? Если здесь замешаны кормящие женщины и дети, а мы только недавно обнаружили, что ВИЧ может передаваться при грудном вскармливании от инфицированной женщины ее ребенку [2], то вдруг в Калмыкии распространен обычай кормить грудью детей родственниц и подруг?
Я уже знал, что Калмыкия является единственной в Европе территорией, большая часть титульного населения которой исповедовала буддизм, а так как религиозным лидером у них является Шаджин-Лама, то полагаю, что там исповедовали буддизм в одном из ламаистских вариантов. Ламаизм связан с Тибетом, а там распространено иглоукалывание, которое теоретически могло играть роль в передаче ВИЧ. Это тоже надо было проверить.
Мы, конечно, проверяли эти гипотезы, но все они постепенно отпадали, так как никакой связи между этническими обычаями и заражением ВИЧ в Калмыкии не прослеживалось. Ни про какие опасные с точки зрения эпидемиологии привычки калмыков я так и не узнал, наоборот, многие обычаи были похвальными. Считалось, например, что калмыки никогда не пьют сырой воды, только кипяченую, чаще – в виде замечательного и весьма калорийного калмыцкого чая. Исторически они занимались скотоводством и выработали очень прочные и полезные навыки кочевого образа жизни. Ни о каком отношении ВИЧ к сельскохозяйственным животным ничего не было известно, и уж, конечно, обезьян там не водилось.
Калмыки являются одной из ветвей монгольского племени, которая еще в XVI в. переселилась в степное междуречье Урала и Волги, а потом и на ее правый берег, на современную территорию республики. После прихода советской власти они получили автономию, быстро усваивали европейскую культуру. Поэт Давид Кугультинов, «друг степей калмык», как он себя представлял пушкинскими словами, прославился на весь Союз. Многонациональное население Калмыкии производило впечатление единого советского народа. Во время фашистской оккупации в ранний период Великой Отечественной войны несколько тысяч националистически настроенных калмыков, которых немцы соблазнили освобождением от «жидо-большевистской власти», примкнули к оккупантам. За это, как тогда было принято, по приказу Сталина весь калмыцкий народ был депортирован в Сибирь. Лишь в конце 1950-х гг. калмыков вернули в родные места и восстановили автономию. Как ни странно, потом оказалось, что этот исторический факт немного, но неожиданным образом повлиял на развитие эпидемической вспышки.
Сойдя с самолета, мы были сразу встречены сотрудниками республиканской СЭС. В дальнейшем именно они и выполнили большую часть огромной технической работы по проведению расследования вспышки ВИЧ-инфекции. Хорошо помню озабоченного неожиданной ситуацией главного санитарного врача республики В.В. Липетикова, на которого неожиданно свалились новые заботы, С.П. Савченко, Н.Ф. Чемизову. Кроме них, отлично поработали и многие другие сотрудники службы. В непосредственном контакте с нашей группой был заместитель главного врача республиканской СЭС К.В. Яшкулов. Не уверен, что сотрудники калмыцкой республиканской СЭС получили какую-нибудь награду за проделанную работу, но, забегая вперед, скажу, что, по крайней мере, от очень строгого наказания их удалось отстоять, аргументируя тем, что в августе 1988 г. они проводили проверку Детской республиканской больницы (ДРБ), выявили в 13% проб следы крови на инструментах, используемых в больнице, и вынесли соответствующее предупреждение. Уже эта информация подтверждала наше первоначальное заключение о характере вспышки.
При первой возможности мы с представителями СЭС отправились в ДРБ, куда ранее были госпитализированы обнаруженные инфицированные ВИЧ дети. Больница в целом производила очень хорошее впечатление, отмечались общий порядок, неплохое оборудование, и в общих чертах эта больница была не хуже московских больниц, в которых я бывал. Как мне поведали, ДРБ была «визитной карточкой» местного здравоохранения. Главным врачом ДРБ была, согласно сплетням, то ли родственница, то ли подруга министра здравоохранения Калмыкии, что само по себе непредосудительно, но давало больнице некоторые преимущества.
Цель нашего визита, как мне показалось, не была известна персоналу больницы, что позволило работать в спокойной обстановке. Краем уха я услышал, что, мол, это все делается «для диссертации» приехавшего из Москвы странного доктора, поэтому никто не нервничал, некоторые, глядя на нас, даже посмеивались. Версия о СПИДе выглядела более чем фантастичной.
Мы уже знали, что все известные к тому времени инфицированные дети были госпитализированы в одно отделение, называемое «грудным», или «грудничковым», так как все дети были маленькими, многие еще были на грудном вскармливании и поэтому находились в палатах вместе с матерями. В процедурных был порядок, но я заметил, что на одном из столов лежали шприцы с написанными на них названиями антибиотиков, кажется, «ампициллин» и «гентамицин». Это было весьма подозрительно. Зачем такая надпись, если инъекции делаются индивидуально? Да и при той мощной процедуре обработки шприцев, которая должна была соблюдаться, о которой я писал в первой части статьи, никаких надписей на шприцах не должно было остаться.
Более неприглядная картина ждала нас в городской инфекционной больнице, в которой тоже побывали ВИЧ-позитивные дети и куда мы с сотрудниками СЭС нагрянули в тот же день поздно вечером. Она размещалась в маленьком полуразвалившемся здании. Растерявшаяся дежурная сестра предъявила нам лоток, наполовину заполненный мыльной водой, из которого торчали шприцы с такими же надписями. Запомнилось, что в палатах вместе лежали больные менингококковой инфекцией и гепатитом. На мой вопрос, по какому принципу распределяются больные по палатам, дежурный врач двусмысленно ответил: «Половой признак мы соблюдаем строго». Тогда я в очередной раз узнал, в каком положении находилась инфекционная служба в стране. Надеюсь, что текущие пандемии изменят это пренебрежительное отношение. Думаю, что тогда негативную роль в слабой поддержке инфекционных стационаров сыграло утверждение правительства, что инфекционные болезни в стране ликвидированы, и, к сожалению, многие в это верили. В одном из статистических сборников я видел таблицу, согласно которой, смертность от инфекций в СССР была минимальной, причем на ее уровне почему-то не отразились в лучшую сторону ни появление антибиотиков, ни распространение вакцинации.
В ДРБ мы тщательно изучили истории болезни инфицированных ВИЧ детей, детей, умерших в стационаре, и неинфицированных детей, находившихся в стационаре вместе с ними в период с 20 по 30 августа 1988 г. Умершие дети заинтересовали нас потому, что один из них был ребенком инфицированной ВИЧ женщины, выявленной, когда она пришла сдавать кровь как донор. Этот ребенок, который был госпитализирован одновременно с несколькими инфицированными детьми, по нашим представлениям, должен был быть участником передачи ВИЧ.
Оказалось, что по документам инфицированные и умершие дети получили за этот период от 42 до 242 (!) инъекций, умершие – больше всех, а неинфицированные – от 2 до 28, то есть связь с количеством инъекций была прямой. Правда, потом выяснилось, что заразиться дети могли и от одной внутримышечной инъекции, достаточно было перед этим сделать тем же шприцем внутривенную инъекцию, но это обнаружилось позднее. Поразительно, но для введения всех препаратов по всем назначениям некоторым грудным детям, весящим несколько килограммов, полагалось использовать 28 шприцев в сутки. А игл к ним, соответственно, требовалось в 2 раза больше. Таким образом, полипрагмазия, то есть использование слишком многих медицинских назначений, особенно требующих парентерального введения, была возможным фактором, повышающим риск заражения ВИЧ. Вспомнилось, как в свое время Валентин Иванович Покровский укорял педиатров в том, что они слишком интенсивно лечат детей по сравнению со взрослыми из тех соображений, что дети, мол, обладают более слабым иммунитетом. Он полагал, что резервы детского организма намного больше, чем у взрослых, и в большинстве случаев они справляются с инфекциями легче. Более легкое течение у детей таких инфекций, как корь, ветряная оспа, а теперь и коронавирусная инфекция, общеизвестно.
Кроме того, мы обнаружили тетради, в которых сестры фиксировали количество сданных на стерилизацию в центральное дезинфекционное отделение больницы шприцев, и их оказалось почти в 2 раза меньше, чем требовалось для выполнения всех проведенных в эти дни в отделении инъекций.
У инфицированных ВИЧ детей, лежавших в одной палате, обнаруживалось и совпадение сроков по одновременно назначаемым препаратам. Чаще всего они получали в одни дни гентамицин, оксациллин и ампициллин, как раз те препараты, названия которых были написаны на подозрительных шприцах. У многих зараженных ВИЧ детей, но не у всех, были установлены подключичные катетеры, которые полагалось 6 раз в сутки промывать раствором гепарина. По показаниям находившихся в больнице матерей, которые потом фиксировали следователи, сестры набирали в шприц гепарин для промывания катетеров из одного флакона, причем, по утверждению свидетелей, гепарин в этом флаконе при этом менял цвет с прозрачного на розовый, что свидетельствовало о попадании туда крови.
Таким образом, все факты и субъективные свидетельства подтверждали версию о внутрибольничной передаче ВИЧ «при повторном использовании шприцев без промежуточной дезинфекции» и многих других нарушениях санитарно-эпидемиологического режима. Проще говоря, стало очевидным, что в дезинфекционное отделение больницы отправляли только часть использованных шприцев, а часть из них «циркулировала» внутри больничных отделений, подвергаясь только минимальной обработке, при которой даже надпись на шприце не стиралась. Все это сокращало нагрузку на персонал, а по отчетным документам процесс отправки шприцев на обработку осуществлялся постоянно без нарушений.
Вот вам и окончание описанных в первой части статьи дискуссий о том, почему введение централизованных дезинфекционных отделений не смогло существенно повлиять на внутрибольничную передачу вирусных гепатитов! Кстати, параллельное исследование материалов от детей, побывавших в этой больнице, выявило высокий уровень зараженности госпитализированных в этот период детей вирусом гепатита В, вирусом Эпштейна–Барр и цитомегаловирусом, которые передавались тем же путем, что и ВИЧ.
Вот вам и воздушно-капельная передача вируса гепатита В! Жаль только участников предшествовавших дискуссий, особенно Г.П. Степанова. Из этого можно сделать только один вывод: какие замечательные инструкции ни пишет Роспотребнадзор, необходимо постоянно следить за их исполнением и делать проверки не только по предъявленной документации, но и постоянно приглядывать, как они выполняются на практике.
Теперь нам оставалось определить границы очага во времени и пространстве. Мы написали план исследования, который сводился к тому, что на антитела к ВИЧ должны обследовать всех детей, которые находились в медицинских стационарах одновременно с выявляемыми в ходе расследования инфицированными детьми. Также необходимо было обследовать матерей выявленных ВИЧ-инфицированных детей, половых партнеров этих женщин, а также доноров крови, от которых дети или их матери могли получить кровь. Учитывая, что первый случай ВИЧ-инфекции был выявлен у женщины, ребенок которой умер в стационаре, мы попросили также найти и обследовать матерей всех умерших детей, сроки пребывания которых в стационаре совпадали с пребыванием ВИЧ-позитивных детей. М.О. Деулина наладила серологическую диагностику в лабораториях Калмыкии. Кроме того, все исследования материалов дублировались и в нашей лаборатории.
По возвращении в Москву я доложил об этих предварительных результатах начальству. Однако не все поверили в описанную мной ситуацию, слишком уж неожиданной она казалась. Для начала критики заявили, что мы неправильно диагностировали ВИЧ- инфекцию, существуют, мол, перекрестные результаты серологических реакций с другими вирусами. Дети, мол, были заражены цитомегаловирусом или «известной только местным жителям инфекцией, которой болеют овцы».
Особенно рьяно бросились опровергать мое заявление сотрудники Министерства здравоохранения РСФСР, так как автономная Калмыкия входила в их зону ответственности. Для начала они послали к нам в клинику, где находились инфицированные дети и женщины, комиссию из 10 профессоров-педиатров во главе с академиком РАМН Ниной Ивановной Нисевич. Ей уже было под 80, и у нее был огромный опыт в области инфекционных болезней у детей. Члены комиссии очень тщательно осмотрели всех детей и потом пригласили меня. Нина Ивановна торжественно объявила: «Ну, молодой человек, не знаю, как ВИЧ, но какое-то новое заболевание Вы действительно открыли: у всех детей обнаруживаются увеличенные лимфатические узлы необычной локализации...». Я, конечно, спорить не стал, но подумал, что и академикам надо почитывать новую научную литературу, так как недавно опубликовал статью про лимфаденопатию у больных ВИЧ [3]. Впрочем, о ВИЧ-инфекции у детей публикаций в отечественной литературе тогда еще не было, да и за рубежом их было немного.
Зою Суворову с шифрованными сыворотками даже отправили для проверки в Швецию, где наши результаты, конечно, подтвердились. «Зачем надо было к нам приезжать, если исследования во всем мире делаются на одинаковых тест-системах?» – спрашивала заведующая шведской лабораторией. Однако я заметил, что результаты и номера сывороток были несколько перепутаны. Вероятно, это была дополнительная проверка. Полагаю, что сотрудники КГБ, учитывая необычность ситуации и возможность диверсии, уже начали свое параллельное расследование. Позднее к делу подключились и следователи прокуратуры, но их делом было выявить и наказать виновных, а нас это не интересовало. Для нас важно было прервать дальнейшую передачу ВИЧ. Тем более что я предполагал, что данное нарушение допускается повсеместно.
Забегая вперед, скажу, что проводимое по нашему плану эпидемиологическое расследование заняло несколько месяцев. К моменту окончательного определения границ вспышки было обследовано более 5000 «контактных» лиц. Из 3105 детей, которые были госпитализированы в Калмыкии в предполагаемые очаги ВИЧ-инфекции в течение 1988 г., инфицированными ВИЧ оказались 73. Из 73 матерей этих выявленных ВИЧ-позитивных детей инфицированными ВИЧ оказались 5, среди 51 матери детей, умерших в стационаре, зараженными оказались 6, но из 15 обследованных половых партнеров ВИЧ-позитивных женщин инфицированным ВИЧ оказался лишь один. Не было выявлено ни одного инфицированного среди 108 доноров, от которых инфицированные дети получали кровь, ни среди 109 матерей серонегативных детей, побывавших в стационаре, ни среди 483 детей, никуда не госпитализированных в 1988 г. Не было инфицированных и среди 1248 сотрудников медучреждений, где побывали ВИЧ-позитивные дети, и среди 1052 лиц, имевших бытовые контакты с ВИЧ-позитивными детьми и женщинами. Выяснилось также, что все инфицированные ВИЧ дети побывали в стационаре в период с апреля 1988 г. по январь 1989 г. и никаких других рисков, кроме пребывания в больницах, в этот период выявлено не было. Параллельно в Калмыкии шло и массовое обследование населения на антитела к ВИЧ, за год было обследовано около 50% населения автономной республики, и ни одного случая ВИЧ-инфекции, не связанного с нашим расследованием, выявлено не было. Это сильно облегчило нашу задачу и подтвердило, что вспышка носит локальный характер, связана с пребыванием в стационарах, на общее население не перекинулась.
Наибольший интерес среди выявленных ВИЧ- позитивных лиц представлял, конечно, единственный выявленный в ходе расследования ВИЧ-позитивный мужчина. Он был мужем ВИЧ-инфицированной женщины, ребенок которой умер от «сепсиса, пневмонии и кандидоза» в середине мая 1988 г., пробыв в отделении всего несколько дней. Дальнейшее исследование показало, что все инфицированные ВИЧ дети побывали в том или ином стационаре уже после этого ребенка. Хотя некоторые попадали в больницы и до этого, но обязательно побывали в больницах и позднее мая 1988 г.
При опросе мужчины, у которого не было выявлено традиционных рисков заражения, выяснилось, что во время срочной службы на флоте, в 1982 г., он побывал в Конго, и работал там в порту на берегу. Позднее он признался, что имел половые контакты с местными женщинами. Интересно, что спустя несколько лет был обнаружен и другой инфицированный ВИЧ моряк из того же подразделения, который сообщил, что половые контакты с местными женщинами «были у всей команды». К счастью, ВИЧ заразились не все, что соответствует относительно низкому риску заражения ВИЧ при гетеросексуальных контактах. Дальнейшее понятно: вернувшись в Калмыкию, бывший моряк женился и со временем заразил ВИЧ и жену. Еще одна его половая партнерша и первый ребенок от жены оказались не заражены, что также соответствовало установленным рискам передачи ВИЧ. Но со временем жена заразилась, второй родившийся у инфицированной жены ребенок получил от нее вирус внутриутробно, тяжело заболел сразу после рождения и вскоре умер от СПИДа в ДРБ, а после его госпитализации вирус стал там циркулировать. Иммунные статусы и моряка, и его жены были на критическом уровне – 250–350 клеток СD4, мужчина перенес опоясывающий лишай, что говорило в пользу давнего заражения.
Таким образом, первичный источник заражения был очевиден, путь передачи ВИЧ детям также не вызывал сомнения. Нам надо было теперь выявить все очаги и провести соответствующие противоэпидемические мероприятия. С этой целью я сделал таблицу, в которой записывал сроки пребывания всех инфицированных ВИЧ и умерших детей, у которых были выявлены серопозитивные к ВИЧ матери в различных стационарах и отделениях. Тогда компьютеров в нашем распоряжении не было, но «голь на выдумки хитра», я рисовал таблицу на миллиметровой бумаге, по мере выявления новых случаев подклеивая дополнительные листы и указывая сроки их пребывания в том или ином стационаре. Если сравнить этот материал с компьютерной графикой из статьи Н.Н. Ладной [4], опубликованной в этом номере, то можно увидеть, насколько больше у нас стало технических возможностей. Но и сейчас по этой полуистлевшей бумаге можно легко проследить, где и когда происходило заражение ВИЧ каждого ребенка. Так, от умершего ребенка бывшего моряка могли заразиться в грудничковом отделении 6 детей, у которых была выявлена ВИЧ-инфекция. В дальнейшем все они по несколько раз госпитализировались в разные отделения ДРБ, в инфекционную больницу или в несколько районных больниц. Дело в том, что через некоторое время после заражения ВИЧ в отделении для грудных детей у инфицированных детей начинались непонятные для врачей проявления острой ВИЧ-инфекции, причем у многих она протекала в очень тяжелой форме. Одновременное инфицирование другими вирусами еще более запутывало клиническую картину. Поэтому детей вновь госпитализировали и время от времени переводили в разные отделения и больницы, ввиду чего возникло несколько вторичных очагов передачи ВИЧ. Главным очагом было отделение для грудных детей, только в реанимации могли заразиться ВИЧ 4 ребенка, в отделении для ОРЗ – 2, в хирургическом – еще 4. Заразиться ВИЧ только в инфекционной больнице могли 4, в Приокской и Сарпинской районных больницах – по 2 чел. Четверо ВИЧ-инфицированных детей побывали в 4 местах передачи, 9 – в 3, а 26 – в 2.
Учитывая, что клиническая картина у детей, заразившихся ВИЧ, оставалась непонятной, многих отправили на диагностику и лечение в крупные медицинские центры, расположенные вокруг Калмыкии. Нам известно по крайней мере о 2 ВИЧ-позитивных детях, находившихся в детских больницах Ростова-на-Дону, 2 – в Волгограде, 3 – в Астрахани. После появления там этих детей возникали новые очаги. В отделениях больницы Ростова-на-Дону и Волгограда находились дети из г. Шахты, Ставрополя, Махачкалы и Грозного. В этих городах потом также возникли вторичные очаги. Позднее многие исследователи установили, что у всех зараженных во время этой вспышки выявляется довольно редкий субтип G. Последнее исследование на эту тему также показало, что родственные этому штамму варианты ВИЧ выявляются именно в Конго, регионе, который сейчас считают первичным очагом пандемии ВИЧ-1 [5].
Перенос ВИЧ прямо из Конго в Калмыкию? Да. И ничего удивительного. Наш первый больной привез ВИЧ в Россию из Танзании. «Железный занавес» висел на границе с Западом, а сотрудничество с развивающимися странами Африки и Азии было очень интенсивным.
Но по ходу расследования возник куда более сложный вопрос. Дело в том, что из 11 выявленных ВИЧ-позитивных женщин, то есть из 5 матерей серопозитивных детей и 6 матерей умерших детей, лишь трое получали какие-либо инъекции в стационаре, и лишь у одной был выявлен серопозитивный партнер, тот самый, что завез вирус из Конго. Остальные мужчины, имевшие с инфицированными женщинами половую связь, все до одного не были инфицированы ВИЧ.
Как же заразились эти женщины?
(Продолжение в следующем номере.)