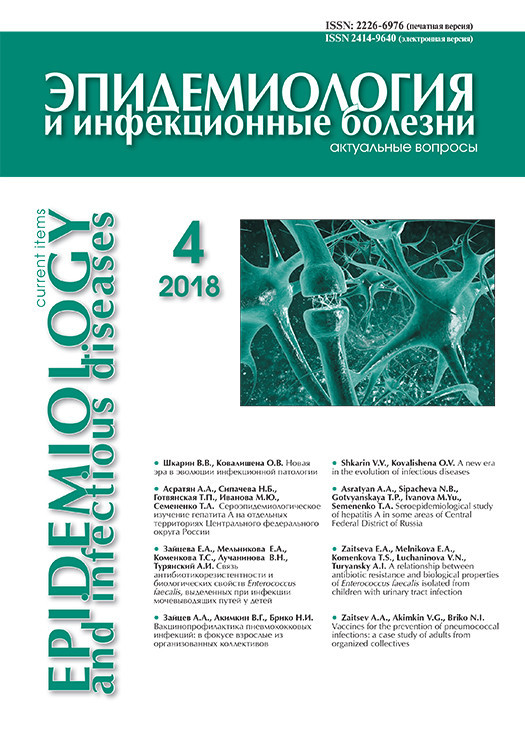Осмысление эволюции инфекционной патологии (ИП) и связанных с этим изменений подходов к диагностике, лечению, профилактике, эпидемиологическому надзору и контролю являлось предметом изучения целого ряда отечественных и зарубежных исследователей. Наиболее значимыми результтатами таких исследований стали концепции, парадигмы и учения, составляющие теоретическую основу современной инфектологии и эпидемиологии инфекционных болезней.
Современные тенденции эволюционных изменений ИП и наиболее проблематичные ее аспекты можно охарактеризовать так [1–4]:
- хронизация ИП;
- рост инфекций вирусной и другой небактериальной природы;
- увеличение в структуре ИП неуправляемых инфекций;
- рост патогенного потенциала и роли условно-патогенной микрофлоры в этиологии инфекций, в том числе инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
- рост резистентности возбудителей инфекций к антимикробным препаратам и распространение полирезистентных штаммов на глобальном уровне;
- изменение клинико-эпидемиологических характеристик давно известных инфекций;
- переосмысление бремени ИП и ее влияния на демографическую ситуацию в мире;
- глобализация эпидемических процессов инфекционных болезней;
- новые инфекции: обобщение и систематизация новых инфекций, путей их появления, причинных факторов; интенсификация процессов появления и выявления новых инфекций;
- выяснение роли инфекционных агентов и ИП в возникновении неинфекционных болезней;
- концепция универсальности глобальных изменений эпидемического процесса антропонозов с разной степенью управляемости;
- сочетанная ИП, коморбидность инфекционных болезней1.
В данной статье мы хотели бы остановиться на обсуждении особенности современного этапа эволюционного развития инфектологии, определяемой как сочетанность ИП. Можно с уверенностью утверждать, что одна из основных клинико-эпидемиологических тенденций – неуклонный рост сочетанных инфекций, в первую очередь новых, а также констатация комплексной коморбидности инфекционной и соматической патологии [5].
ХХ век, с точки зрения представления о причинных факторах ИП, являлся эпохой моноэтиологичности. Вся идеология (теории, концепции, нормативная база и т. д.) того периода в эпидемиологии и клинике инфекционных болезней была построена на фундаменте моноэтиологичности: один возбудитель – одна болезнь. На этом принципе и в настоящее время построена вся система противоэпидемического обеспечения населения в нашей стране. Этот же «моноэтиологизм» заложен в основу подготовки и переподготовки кадров высшей медицинской школы. Ни в одном из существующих учебников нет специальных разделов о сочетанной ИП, не говоря уже о комплексной коморбидности соматических и инфекционных болезней. Между тем уже давно замечено, что филогенез всех возбудителей инфекционных болезней происходит в условиях тесного и избирательного взаимодействия отдельных видов с формированием в организме хозяина различных биоценозов.
Несмотря на наличие понятия «полиэтиологичность» и ранее, а также отдельных исследований по данному направлению, своеобразный эпидемиологический переход в эпоху полиэтиологичности начался только в последней четверти ХХ века и активизировался в первые десятилетия XXI века, когда в ИП начали накапливаться факты, фундаментально не укладывающиеся в «прокрустово ложе» моноэтиологичности.
Одними из первых об этом заявили О.В. Бароян и Д.Р. Портер (1975), которые дали и первое определение полиэтиологичным инфекциям: «Микст-инфекция, то есть смешанная, сочетанная инфекция, обусловленная воздействием двух и более агентов-микроорганизмов, относящихся к разным типам и видам представителей мира микробов».
Одновременно вышла монография Н.А. Пискаревой (1975) о «смешанных» вирусных инфекциях у детей, а затем следующая работа2, посвященная «смешанным» формам дизентерии, брюшного тифа, гепатита А и некоторым паразитозам. В следующей монографии представлен аналитический материал о заболеваемости сочетанными формами туберкулеза (ТБ), ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов3. Наконец, в одной из публикаций представлены материалы о сочетанной патологии так называемых социально-значимых инфекций, изложены взгляды авторов на формирование полиэтиологичных инфекций, а также ряд эпидемиологичных особенностей их проявления4.
При накоплении в теории науки достаточного количества данных о значимых фактах, противоречащих или, скорее всего, отклоняющихся от существующих представлений, появляются симптомы начинающегося переломного этапа – кризиса. В течение этого кризиса, который по разным причинам может затягиваться, накапливаются новые идеи и факты, которые до этого не принимались во внимание или им не придавалось должного значения. В конце концов формируется новая парадигма, которая все больше обрастает новыми эпидемиологическими наблюдениями, микробиологическими доказательствами и многочисленными клиническими случаями.
Фактически, начиная с рубежа веков и до наших дней, инфектология и эпидемиология инфекционных болезней переживают такой «кризис» перехода от моноэтиологичности к полиэтиологичности, который можно рассматривать как парадигму современной инфектологии. Понятно, что для формирования парадигмы требуется существенная доказательная база как научного, так и практического плана.
Как известно, значение любой патологии человека определяется рядом критериев, в первую очередь таких как смертность, заболеваемость, распространенность, влияние на демографические процессы и др. Приходится только сожалеть, что мы не имеем обязательной государственной регистрации сочетанных болезней, и потому об исключительной важности сочетанной ИП пока можем судить только по выборочным исследованиям, отраженным в публикациях и научных работах уровня кандидатских и докторских диссертаций, имеющих, как правило, узко фрагментарный характер исследования по отдельным нозологиям.
Для начала обратимся к материалам публикаций об инфицированности и заболеваемости населения рядом моноинфекций, возбудители которых чаще всего сочетаются с другими микроорганизмами. Вирусом герпеса человека 6-го и 7-го типов поражено около 90% населения земного шара [6]; бластоцистами – до 50%5, вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ) – 60–95%; цитомегаловирусом (ЦМВ) – 60–70%6,7, Toxoplasma gondii – 10–50% [7, 8]. Инфицированность H. pylori в разных странах составляет 50–80% у детей и достигает 90% у взрослых [9]. В России частота выявления этих инфекций практически не отличается от мировых показателей [7, 8]. Сюда необходимо приплюсовать сотни миллионов, а возможно и несколько миллиардов ежегодно регистрируемых случаев острых респираторных заболеваний, гриппа, различных диарейных инфекций и паразитозов. Исходя из этого, все население планеты, начиная с 12–15-летнего возраста, так или иначе заражено той или иной инфекцией, а в ряде случаев – с пожизненной персистенцией одного или даже нескольких возбудителей. Здесь уже не остается места для моноинфекции.
Значимость полиэтиологичных инфекций и тенденции к ее возрастанию
Какова же значимость сочетанных форм инфекций в реальности (заболеваемость, распространенность, удельный вес, тенденции изменения этих показателей)? Судя по многочисленным исследованиям, они составляют более половины официально зарегистрированных заболеваний. Высочайшую актуальность сочетанных инфекций подтверждают данные статистики. В России с 1999 г. учитываются пока только случаи ВИЧ-инфекции/ТБ: за 13 лет заболеваемость в стране выросла в 127 раз! В некоторых регионах (Сибирский федеральный округ) показатель заболеваемости этой сочетанной инфекцией в 2013–2014 гг. превысил показатель заболеваемости ТБ [10].
Среди лиц, умерших от ВИЧ-инфекции, практически все имели сочетанную патологию [11]. Ежегодный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией/ТБ влечет за собой рост заболеваемости и смертности как от ТБ, так и от ВИЧ-инфекции. К сожалению, анализ документации показал, что имеет место преднамеренное занижение числа смертей от ТБ и числа первичных больных ТБ8.
Это подтверждают очень важные данные А.В. Мизгайлов и соавт. об обстановке в Москве9, где за последнее десятилетие смертность от вирусных гепатитов возросла в 3,4 раза, от ВИЧ-инфекции – в 5,6 раза, в то же время смертность от ТБ снизилась в 4,3 раза (?!). О причинах ничего не сказано, однако можно полагать, что речь идет о сочетанных формах этих инфекций, где есть возможность манипулирования так называемым пунктом «непосредственная причина смерти». А это, в свою очередь, связано с постановкой перед Минздравом России задачи «… снижения смертности от туберкулеза к 2018 г. до 11,8 случаев на 100 тыс. населения».
Проблему стремительного роста сочетанности ТБ, ВИЧ-инфекции и инфекционных гепатитов в нашей стране стало понимать и руководство Роспотребнадзора. Об этом свидетельствуют государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ». Было отмечено, что в 2013 г. среди больных ВИЧ-инфекцией/ТБ умер 5841 человек, а в 2014 г. – уже 6685. Высказан даже прогноз о росте сочетанных форм инфекций в ближайшие годы.
По данным ряда авторов [12], число больных с коинфекциями (ТБ/гепатит С/ВИЧ-инфекция; ТБ/гепатиты; ВИЧ-инфекция/ТБ) увеличивается с каждым годом, модифицируя клинические проявления болезни. Подобные сочетанные инфекции достаточно трудно диагностировать и назначать адекватные способы лечения с учетом токсичности отдельных препаратов. Это приводит к увеличению сроков пребывания больных в стационаре и частоты летальных исходов. В Санкт-Петербурге в одном из лечебных учреждений за период 2001–2007 гг. летальность больных с сочетанной патологией выросла более чем в 5 раз – с 3,8 до 23,1%10.
Многочисленные публикации свидетельствуют о значительном росте сочетанных форм гепатитов как между собой, так и, в первую очередь, с ВИЧ-инфекцией. Подчеркнуто, что сочетанное инфицирование клинически значимыми гепатотропными вирусами в разных формах встречается не менее чем у 3% населения [13]. Отсюда несложно подсчитать абсолютные цифры больных в мире и в России. Представленные данные подтверждают и авторы других работ [14].
В России сочетанной инфекцией было обусловлено от 1 до 26% случаев острых вирусных гепатитов, а среди лиц, употребляющих наркотики – до 45% случаев [15].
Тревожит рост более чем в 2 раза числа случаев сочетания гепатита В и ТБ [12]. Растет заболеваемость сочетанными формами парентеральных гепатитов с сифилисом и ВИЧ-инфекцией. Так, в Санкт-Петербурге в 1995–1997 гг. наблюдался рост случаев острых гепатитов у больных сифилисом с 1,7 до 49,5%, то есть в 29 раз!
Объективно оценить распространенность инфицирования вирусом гепатита С (ВГС), так же как и его сочетанность с другими инфекциями, не представляется возможным [16]. Даже данные в Государственных докладах
Роспотребнадзора вызывают сомнение: в 2007 г. упоминается, что за 6 лет в стане установлено около 2 млн носителей ВГС, а в 2008 г. указано, что за 10 лет выявлено около 1,1 млн носителей.
Распространенность ВГС в РФ можно оценить по данным выборочных исследований. По результатам обследования 16,3 млн человек на маркеры хронических вирусных инфекций при реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» выявлено 3,6% инфицированных ВГС, а частота сочетания ВИЧ с ВГС и вирусом гепатита В (ВГВ) более чем убедительна:
- ВИЧ/ВГВ/ВГС – 167 639 случаев (более 32% пациентов с ВИЧ);
- ВИЧ/ВГС (без ВГВ) – 141 321 случай (более 27% пациентов с ВИЧ);
- всего с ВИЧ/ВГС – 308 000 (до 60%)11.
Таким образом, большую тревогу вызывают темпы роста в стране количества больных хроническими формами ГВ и ГС, а особенно – неуклонного роста количества больных, у которых гепатит имеет сочетанную этиологию. Исследования, проведенные в Санкт-Петербурге среди детей, госпитализированных в инфекционный стационар, показали, что в 10% случаев острый гепатит сочетался с различными паразитозами. При этом, как отмечает автор, доля сопутствующих инвазий имела выраженную тенденцию к росту12.
Многие авторы также отмечают рост заболеваемости сочетанными формами кишечных инфекций. Наблюдается увеличение более чем в 13 раз (с 3 до 40%) сочетанных форм иерсиниоза у детей в комбинации с гепатитами А и В (57,6% всех сочетанных инфекций), шигеллезами (12,3%) и условно-патогенной микрофлорой (14%) [17].
Ряд авторов [18–20] отмечают ежегодный рост числа случаев сочетания сальмонеллезов с другими инфекциями.
В целом по стране за последние 10 лет удельный вес детей с сочетанными инфекциями возрос с 40 до 74% [21], что должно вызывать серьезную тревогу у педиатров. Особый научно-практический интерес представляют эпидемиологические особенности сочетанных инфекций в группе часто болеющих детей, у которых в 51,7% случаев регистрировали вирусно-бактериальные комбинации и в 21,7% – вирусно-вирусные инфекции [22, 23].
Важно также отметить, что паразитарные болезни у детей часто протекают как сочетанная инвазия, вызванная 2 и более паразитами, достигая в структуре паразитозов 75% [24]. При этом выявляются заболевания, обусловленные 5 и более патогенами [25–27]. Еще в 1972 г. эксперты ВОЗ включили токсоплазмоз, возбудитель которого имеет склонность ассоциироваться с множеством других патогенов, в число заболеваний, являющихся одной из причин акушерской и детской сочетанной патологии [28].
В последнее десятилетие сочетанные инфекции урогенитального тракта стали преобладать над моноинфекциями, при этом более чем у трети заболевших выявляют 3 и более возбудителей [29, 30]. В отдельных исследованиях называют и более высокий уровень – 97%.
В структуре острых респираторных инфекций не менее 5–16% случаев обусловлены герпесвирусами. В России около 23 000 человек переносят герпесвирусную нейроинфекцию с высокой летальностью (5–70%), 250 000– 300 000 – офтальмогерпетическую инфекцию, около 8 млн – генитальный герпес и 10–12 млн – оролабильный герпес и герпес гладкой кожи [31].
Необходимо обратить особое внимание на врожденные инфекции, доля которых составляет 25% среди живорожденных, а в структуре перинатальных потерь – 50% и более. 80% врожденных инфекций являются сочетанными [32]. Это вызывает рост инвалидизации детей вследствие врожденного инфицирования (более 30%) и наносит значительный экономический ущерб, связанный с затратами на диагностику, лечение, динамическое диспансерное наблюдение за этими детьми, их социальную адаптацию и реабилитацию. Несмотря на определенное внимание к этой проблеме, частота врожденных инфекций и их сочетанность не имеют тенденции к снижению. По данным исследователей [33], ЦМВ-инфекция является ведущей причиной врожденных поражений ЦНС, нарушения психического развития детей, тяжелых иммунных поражений, что сокращает продолжительность жизни и часто приводит к смерти ребенка.
Наши исследования формирования госпитальных ассоциаций свидетельствуют и об актуальности полиэтиологичных инфекций, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами, особенно инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в хирургических отделениях различного профиля [5]. Они характеризуются высоким уровнем заболеваемости, разнообразной этиологией, включая госпитальные ассоциации, обладающие клиническими, эпидемиологическими и микробиологическими отличиями от моноэтиологичных инфекций.
В ряде публикаций [34–37] отмечается рост сочетанности микозов с другими инфекциями, а также увеличение их доли в структуре инвазивных микозов (кандидоз, аспергиллез, криптококкоз, пневмоцистоз), характеризующихся значительной тяжестью клинических проявлений и неблагоприятным прогнозом.
С учетом эволюции структуры ИП и систематическим появлением новых инфекций меняются и сочетания различных патогенов. Уже практически не встречаются публикации о коинфекциях, вызванных возбудителями брюшного тифа, шигеллезов, дифтерии, скарлатины, кори и некоторых других заболеваний, постепенно уходящих в прошлое. На смену им приходят анаплазмозы и эрлихиозы, коксиеллезы и хламидиоз, хеликобактериозы и заболевания, вызываемые ВЭБ, ротавирусами и норовирусами, оппортунистические инфекции, иерсиниозы и иксодовые клещевые боррелиозы, а также десятки других новых инфекций.
Особенно показательны в этом отношении инфекции с природной очаговостью. Так, число случаев сочетанных форм клещевого энцефалита (КЭ) и иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) составляет до 48% и приближается к числу больных моноинфекциями [38, 39]. Возбудители КЭ, ИКБ, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) в различных сочетаниях вызывают 15,5–30% заболеваний. В структуре заболеваемости населения, проживающего в сочетанных природных очагах туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и лептоспироза в Республике Мордовия, доля сочетанных инфекций составила 78,2%13. Рост сочетанной патологии среди инфекций с природной очаговостью отмечается как по отдельным территориям, так и по стране в целом. Более того, отдельные очаги сочетанных инфекций были зарегистрированы в центральных областях Европейской части страны даже в пределах областных центров.
Изменения в структуре ИП происходят и под влиянием новых респираторных инфекций сочетанного генеза. В начале XXI века появились новые вирусы, такие как метапневмовирус (HMPV) и бокавирус (HBoV). Частота инфекций, вызванных ими в сочетании другими респираторными вирусами, колеблется от 18 до 90%14 [40]. У детей коронавирус в сочетании с аденовирусом и вирусом гриппа выявляют в 20% случаев [41]. Аналогичная ситуация и по кишечным инфекциям. По данным отдельных исследований [42], в структуре острых кишечных инфекций полиэтиологичность среди новых вирусных инфекций у детей достигает уже 56,3%.
Качественные процессы, касающиеся клинических, эпидемиологических и этиологических характеристик сочетанной ИП
Смена и развитие новой парадигмы сочетанности ИП определяются не только количественными параметрами (рост числа сочетанных инфекций), но и качественными изменениями ее характеристик. Прежде всего, речь идет об изменении клиники при сочетанной патологии, реализации ее потенциала как причины некоторых онкологических заболеваний (лимфома Беркитта), существенных изменениях эпидемических процессов (лейшманиоз и др.) и биологии возбудителя, более сложных механизмах формирования заболеваемости (несовпадающие механизмы передачи инфекции) и некоторых других.
Гепатит D – один из ярких примеров сочетанной инфекции. Различают 2 его формы. При первой возникновение острого заболевания связано с одновременным заражением ВГВ и ВГD (коинфекция). При второй гепатит D развивается в результате инфицирования D-вирусом лиц, у которых имело место предшествующее заражение АВ-вирусом и формирование его персистенции (суперинфицирования). Сочетание маркеров гепатитов В и D выявляют у 76% больных фульминантным гепатитом В и у 60% больных хроническим активным HBs-антигенопозитивным гепатитом В15.
Сочетание отдельных инфекций может вызывать онкологические заболевания. Ярким примером служит сочетание малярии с ВЭБ, которое приводит к возникновению лимфомы Беркитта (ЛБ) – наиболее распространенного онкологического заболевания в Экваториальной Африке.
От него ежегодно гибнет множество детей. ЛБ – это первый человеческий рак, известный как ассоциация двух патогенов [43, 44]. Данные ряда исследований позволяют считать, что между ВЭБ и P. fаlciparum существует молекулярная связь, результатом которой становятся хромосомные транслокации, в свою очередь являющиеся возможной причиной пролиферации β-клеток и их неконтролируемого размножения [43, 45].
Очень интересное и важное с эпидемиологической точки зрения предположение высказано рядом зарубежных авторов. По их мнению, малярия в сочетании с рядом бактериальных и вирусных инфекций снижает уровень иммунитета хозяина по отношению к разным инфекциям и, возможно, уменьшает эпидемиологическую эффективность некоторых вакцин [46, 47].
Следует обратить внимание на роль сочетанных инфекций в эволюции их эпидемиологии [13, 48], Иллюстрацией эволюции эпидемического процесса под влиянием сочетанности является висцеральный лейшманиоз, сочетанный с ВИЧ-инфекцией. По мере развития пандемии ВИЧ произошло изменение эпидемиологии висцерального лейшманиоза. Увеличение числа потребителей инъекционных наркотиков, инфицированных ВИЧ и возбудителем висцерального лейшманиоза, способствовало возникновению эпидемической цепочки, из которой было исключено трансмиссивное звено (микст-переносчик). Фактором передачи стали служить контаминированные шприцы, что обеспечивало прямую инъекционную передачу возбудителя лейшманиоза. Больные лейшманиозом стали играть несвойственную роль источника инфекции (каким раньше были собаки), и заболевание из типичного зооноза на первом этапе эволюции превратилось в трансмиссивный антропоноз16.
Интересны данные Ларина Ф.Н. и соавт. [49], которые пришли к заключению, что на тенденцию к снижению заболеваемости гепатитом А существенное влияние оказывает вакцинопрофилактика полиомиелита. Как известно, вирусы полиомиелита и гепатита А достаточно близки по своим биологическим и эпидемиологическим характеристикам. Авторы полагают, что вирус полиомиелита подавляет репликацию ВГА.
В клинической практике чаще всего встречается сочетание 2 возбудителей, которые, по нашим данным, вызывают около 70% случаев сочетанных инфекций. Сочетание же 4 и более возбудителей наблюдается в 7,1% случаев. Это касается таких социально значимых болезней как ВИЧ-инфекция, ТБ, вирусные гепатиты, паразитозы и инфекции с природной очаговостью. В качестве иллюстрации достаточно привести случаи ассоциаций 4 возбудителей (ВИЧ/M. tuberculosis/ВГВ/ВГС, возбудители ИКБ/ГАЧ/МЭЧ/бабезиоза) и более (острицы/токсокары/описторхи/лямблии/ аскариды/власоглав/бластоцисты [26]).
Довольно сложно оценивать биологические, этиопатогенетические и эпидемиологические аспекты формирования сочетанных инфекций (инвазий) при наличии 3 и более патогенов разных видов, разной их тропности к органам и тканям макроорганизма, множественных путей и факторов передачи инфекции (инвазии). Здесь надо исходить из конкретики сочетаний, числа возбудителей, их видов, очередности инфицирования, длительности инкубационного периода, биологических особенностей микроорганизмов, а также состояния макроорганизма. Этиологическими агентами сочетанных инфекций могут быть микроорганизмы одного и того же семейства или более крупных таксонов и царств в сочетаниях типа вирус/вирус, вирус/бактерия, бактерия/простейшее, бактерия/гриб, вирус/бактерия/простейшее и т. д. Нередко возбудители инфекций представлены ассоциациями патогенных и условно-патогенных микроорганизмов или их сочетаниями, например, Treponema pallidum/ВЭБ/ЦМВ [50]. Чаще всего встречаются такие варианты микроорганизмов-ассоциантов: бактерия/вирус (24,3%), бактерия/бактерия (18,7%) и вирус/вирус (17,9%). В целом на эту группу приходится 60,9% случаев сочетанных инфекций. Сочетания типа бактерия/гельминт, бактерия/простейшее, бактерия/гриб, вирус/простейшее составляют от 4,1 до 8,6%, в целом – 25,4%.
В работе Т.И. Долгих 17, описан клинический случай сочетанной инфекции, обусловленной 2 вирусами (ЦМВ/ВПГ), бактерией (листерией) и простейшим (токсоплазма). Подобное сочетание приводит к полипатогенному поражению различных органов и систем макроорганизма. С эпидемиологической точки зрения в данном случае представлены все существующие механизмы передачи, при которых возможно инфицирование человека.
Эпидемиологические особенности формирования полиэтиологичных инфекций
Когда речь заходит о механизмах формирования полиэтиологичных инфекций, возникает вопрос: это случайное или закономерное явление с эпидемиологических позиций? Мы полагаем, что ответ очевиден. Разве можно игнорировать миллионы случаев сочетанных инфекций и их неуклонный рост, а также участие в эпидемических процессах фактически всех видов патогенных и условно-патогенных микроорганизмов?!
Формирование полиэтиологичной ИП – это закономерный процесс, отражающий очередной этап эволюции ИП.
Очень важно изучать и осознавать закономерности формирования сочетанной патологии в целом и особенности отдельных составляющих этого процесса. С эпидемиологической точки зрения весьма интересна роль механизмов передачи возбудителей сочетанных инфекций, особенно при разных путях передачи. Логично предположить, что при сочетанной инфекции имеет место общий механизм передачи, например, фекально-оральный (шигеллез/брюшной тиф), аспирационный (коклюш/ОРВИ) или трансмиссивный (МЭЧ/ГАЧ/ИКБ).
Анализируя научные публикации, мы выявили, что чаще всего при возникновении сочетанных инфекций отмечалось сочетание механизмов передачи возбудителей инфекций – около 31% от общего числа наблюдений. Так, при сочетании ВИЧ-инфекция/ТБ возможны контактный, аспирационный, вертикальный и артифициальный механизмы передачи инфекции, при сочетании ВИЧ-инфекция/токсоплазмоз – контактный, фекально-оральный, вертикальный, артифициальный. При сочетанной инфекции токсоплазмоз/ЦМВИ/ТБ/пневмоцистная пневмония инфицирование может осуществляться любым известными путем, кроме трансмиссивного.
В литературе описан уникальный клинический случай сочетанности 6 инфекций, обусловленных разными (ВГС/бластоциста/Clostridium spp./Candida spp./Klebsiella/S. aureus), неоднородными по экологии (антропоноз, зооантропоноз, сапроноз) со всеми существующими путями передачи инфекции, с полиорганным поражением18.
Интересно рассмотреть весь этиологический комплекс сочетанных инфекций как компонент эпидемического процесса. С позиций моноэтиологичности инфекцию принято рассматривать как резко выраженную форму антагонизма в природе. А насколько применима эта формула к сочетанной патологии? Далеко не всегда.
Необходимо помнить о непростых взаимоотношениях возбудителей, которые складываются в ходе межмикробных взаимодействий при сочетанных инфекциях. Эти вопросы пока мало изучены, преимущественно в отношении ВГВ и ВГD, а также условно-патогенных микроорганизмов при внутрибольничных инфекциях19, однако исследователи активно занимаются поиском ответов [5]. Возможно, изучение ассоциативных форм симбиоза между возбудителями инфекционных болезней приоткроет завесу тайны над природой «притяжения» разных инфекционных заболеваний друг к другу.
Инфекционный процесс, вызванный одним возбудителем, представляет собой сложное взаимодействие между макро- и микроорганизмом, а при инфекции, обусловленной 2 и более возбудителями, вариантов их взаимоотношений становится больше, значит и процесс должен протекать на более сложном уровне. В данном случае должны быть учтены взаимодействия как с организмом человека, так и между самими возбудителями, которые могут существенно изменять течение всего инфекционного процесса. Взаимодействие нескольких возбудителей в человеческом организме является сложным и качественно иным патогенетическим процессом, который не может быть выражен простым суммированием признаков, характерных для каждой составляющей его моноинфекций. Вариантов же взаимодействия нескольких возбудителей в человеческом организме может быть множество: от нейтральных/индифферентных до ассоциативных (благоприятствующих) или же антагонистических (конкурентных) по отношению друг к другу.
Таким образом, при сочетанных инфекциях организм человека и комплекс возбудителей инфекций формируют сложную паразитарную систему, в которой возникают разнообразные взаимоотношения между участниками.
Важно также учитывать особенности иммунного ответа при разных сочетаниях и числе ассоциантов у детей и взрослых. Видимо, имеет значение качественный и количественный состав возбудителей-ассоциантов у больных при определении сроков эпидемической опасности этих больных как источников инфекции. К сожалению, пока ничего не известно об особенностях формирования носительства при том или ином сочетании возбудителей, а также влиянии ассоциаций различных видов микроорганизмов на длительность инкубационного периода.
Определение инфекционного и эпидемического процессов при сочетанной ИП
При определении понятия «инфекционный процесс», возникает вопрос: является ли он единым для всех участников?
Согласно логике этиопатогенеза, каждый возбудитель должен в той или иной степени вызывать инфекционный процесс. Можно предположить, что при сочетанных инфекциях имеют место столько инфекционных процессов, сколько возбудителей участвует в развитии сочетанной ИП. Возможно, не забывая о биологической уникальности и особенностях инфекционного процесса каждого возбудителя, целесообразно определить ведущую роль одного или двух инфекционных процессов, учитывая сроки инфицирования, длительность инкубационных периодов и другие факторы. В патогенезе сочетанной инфекции важное значение имеет порядок инфицирования – одновременное (коинфекция) или последовательное (суперинфекция) – который зачастую и определяет последовательность развития клинических проявлений, выраженность и преобладание симптомов, характерных для отдельно взятого инфекционного заболевания.
В качестве иллюстрации этого явления можно привести малярию. Если инфицирование P. vivax произошло раньше, чем P. falciparum, первый подавляет второго [51]. При одновременном заражении и сходных условиях окружающей среды P. falciparum имеет преимущество в скорости развития заболевания по сравнению с P. vivax. В результате популяция паразитов трехдневной малярии может быть подавлена. Однако такая прямая зависимость наблюдается далеко не всегда. Бывает, что инфекция, возбудитель которой проник в организм человека позже, манифестирует раньше, ярче и в большей степени определяет клиническую картину и исход заболевания.
В то же время нельзя отрицать общности ряда патогенетических механизмов развития ИП, которые могут реализоваться при сочетанных инфекциях, что позволяет говорить в некоторых случаях и о едином инфекционном процессе, вызванном сочетанием возбудителей с общими механизмами реализации патогенности.
Обратимся теперь к эпидемическому процессу. Традиционно принято рассматривать его с позиции моноэтиологичных инфекций, где эпидемический процесс есть непрерывная цепь инфекционных состояний, и в этой непрерывности возбудитель сохраняется как биологический вид. При сочетанных инфекциях не следует рассматривать изолированно несколько эпидемических процессов, поскольку такой подход вряд ли можно считать научно обоснованным.
С нашей точки зрения, эпидемический процесс при сочетанных инфекциях – это результат сопряженных эпидемических процессов соответствующих моноинфекций. Он представляет собой процесс распространения среди людей полиэтиологичных инфекционных заболеваний, обусловленных одновременным или последовательным заражением несколькими возбудителями от одного или разных источников инфекции при участии одного или нескольких путей передачи возбудителей инфекций.
Если при сочетанной патологии имеет место одновременно или последовательно ряд взаимосвязанных инфекционных процессов, то эпидемический процесс, скорее всего, надо оценивать комплексно с учетом всех специфических эпидемиологических детерминант каждого из них.
Фактически все исследования, посвященные сочетанным инфекциям, свидетельствуют о неблагоприятных последствиях сочетания нескольких возбудителей в организме человека. Как правило, сочетанная ИП протекает тяжелее, что приводит к более массивному выделению возбудителей из организма больного, а значит и к большей вероятности контаминации внешней среды и инфицирования окружающих. При этом возможно выделение от таких больных возбудителей с большей вирулентностью. Сочетанная инфекция представляет собой значительно более трудный объект для эпидемиологического надзора и контроля, чем моноинфекция. При полиэтиологичной инфекции не исключена несвоевременная и неправильная диагностика, что может привести к несвоевременным локализации очага и началу противоэпидемических и профилактических мероприятий. Не отработана система учета сочетанной патологии, эпидемиологический, микробиологический и иммунологический мониторинг. Очень ограниченно осуществляется эпидемиологическая диагностика сочетанных инфекций. Управленческие решения по контролю заболеваемости, за редким исключением, также не учитывают особенностей сочетанной патологии.
Глобальные и региональные причины формирования и роста сочетанной патологии пока остаются неясными и требуют внимательного изучения. Мы более чем уверены, что удельный вес сочетанных инфекций будет расти за счет совершенствования существующих и разработки новых методов диагностики, появления новых инфекций, а также пристального внимания к ним со стороны практических врачей. А это внимание должно быть подкреплено их профессиональной подготовкой.
Учитывая актуальность сочетанной ИП, фрагментарность и отсутствие фундаментальных исследований по этой проблеме, необходимо глубокое всестороннее комплексное изучение вопросов сочетанности с эпидемиологических, патофизиологических, микробиологических, иммунологических и клинических позиций для разработки теоретических и практических основ профилактики и лечения этого вида инфекций.
Для практической реализация фундаментальных разработок в этой области необходимо внести изменения и дополнения в нормативно-методические документы Минздрава России и Роспотребнадзора (в первую очередь это касается учета, регистрации, ведения государственной статистической отчетности); применять комплексный подход к оценке эпидемического процесса сочетанных инфекций с учетом специфических эпидемиологических характеристик отдельных инфекций; создать адаптированные параметры эпидемиологического надзора за сочетанными инфекциями с учетом эпидемиологических особенностей каждой; разработать и внедрять профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на борьбу с сочетанными инфекциями.
Выводы
На основании представленных материалов можно заключить следующее.
- Рост сочетанной ИП можно рассматривать как одну из основных тенденций эволюции ИП.
- Осмысление данного эволюционного процесса ведет к смене в теории инфектологии и эпидемиологии инфекционных болезней от доминирующего представления о моноэтиологичности к парадигме полиэтиологичности ИП.
- Полиэтиологичность ИП влечет за собой многочисленные качественные изменения как в эпидемическом, так и в инфекционном процессе, которые касаются биологии возбудителя, патогенетических особенностей формирования сочетанной патологии, более тяжелой клиники заболеваний, эпидемиологических характеристик инфекции и др.
- Полиэтиологичность ИП создает неизбежные сложности в диагностике, выборе препаратов для лечения, подходах к эпидемиологическому надзору и профилактике, что требует создания соответствующей нормативной и методологической базы и подготовки специалистов.
- Парадигма полиэтиологичности ИП имеет, по сравнению с представлением о моноэтиологичности, более сложное внутреннее содержание формирования патологии с учетом взаимоотношений возбудителей разных видов как между собой, так и с макроорганизмом, а также с рассмотрением связанных (сопряженных) эпидемических процессов. Это, в свою очередь, ставит и новую задачу прогнозирования эпидемиологической обстановки по той или иной сочетанной патологии на ближайшую и особенно на отдаленную перспективу.
- Высокий уровень сочетанности так называемых социально обусловленных инфекций на фоне многочисленности «поведенческих групп риска» способствует транформации этой проблемы из чисто медицинской в социальную, и это также требует адекватных мер контроля.
- Необходима разработка комплексной платформы по изучению сочетанной ИП и совершенствованию технологий диагностики, лечения, эпидемиологического надзора и профилактики.