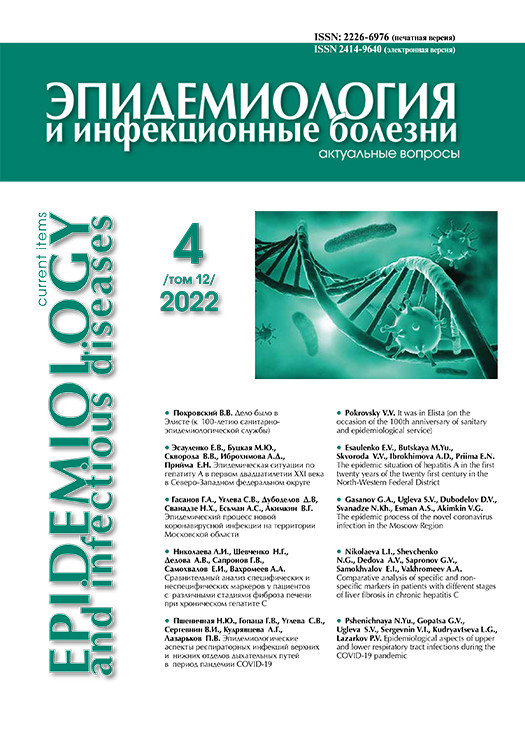Проблема неполиомиелитных энтеровирусных инфекций (НЭВИ) сохраняет актуальность для здравоохранения всех стран, обусловленную повсеместным распространением, высоким уровнем заболеваемости с периодическими эпидемическими подъемами, разнообразием клинических синдромов и тяжести течения [1]. Активизации эпидемического процесса НЭВИ, наряду с высокой контагиозностью и отсутствием средств специфической профилактики, способствует выведение из естественной природной циркуляции возбудителя полиомиелита [2, 3]. Спектр циркулирующих серотипов энтеровирусов разнообразен, изменчив, появляются новые вирусы, к которым отсутствует коллективный иммунитет, что приводит к увеличению числа заболевших и утяжелению течения, затрудняет своевременную диагностику, снижает эффективность профилактических и противоэпидемических мероприятий [4–10]. Клиническая симптоматика заболеваний, вызываемых неполиомиелитными энтеровирусами, чрезвычайна вариабельна, структура форм меняется со временем, различается в возрастных группах, разных регионах мира, что в совокупности определяет целесообразность динамического изучения эпидемиологических и клинических особенностей НЭВИ [11–14].
Цель исследования – клиническая характеристика НЭВИ у взрослых госпитализированных пациентов в Краснодарском крае.

Материалы и методы
Проанализирована клиническая симптоматика НЭВИ у 111 взрослых больных, госпитализированных в Специализированную клиническую инфекционную больницу Министерства здравоохранения Краснодарского края (Краснодар) в 2016–2019 гг. Среди больных было 54 (48,6%) мужчины и 57 (51,4%) женщин, средний возраст составил 29,4 ± 0,8 года [18–72 года].
Диагноз НЭВИ верифицировали с помощью ПЦР в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.2950- 11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции». В зависимости от клинической формы заболевания подтверждением НЭВИ считали обнаружение РНК энтеровирусов в стерильных типах клинического материала (кровь или ликвор) или в нестерильных типах клинического материала (носоглотке/ротоглотке, кале) при наличии у пациента специфичной клинической картины заболевания, либо присутствие РНК энтеровирусов в 2 пробах нестерильных клинических материалов разных типов.
Во всех случаях исследования спинномозговой жидкости (n = 35) и крови (n = 42) методом ПЦР, помимо РНК неполиомиелитных энтеровирусов, определяли ДНК Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenes, Toxoplasma gondii, Borrelia, Parvovirus B19, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Varicella zoster virus, Epstein–Barr virus, Human cytomegalovirus, Human betaherpesvirus 6, а также РНК West Nile virus.
Материал соскоба со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки (n = 29), помимо РНК неполиомиелитных энтеровирусов, тестировали методом ПЦР на наличие РНК вирусов гриппа серотипов А, В и АН1N1 swine.
В содержимом везикул (n = 15), кроме РНК неполиомиелитных энтеровирусов, методом ПЦР определяли ДНК Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Varicella zoster virus. Во всех случаях нуклеиновые последовательности перечисленных микроорганизмов в биологических материалах, кроме РНК неполиомиелитных энтеровирусов, не обнаружено.
В ряде случаев для исключения сходных с НЭВИ инфекционных заболеваний, протекающих с менингеальным синдромом, экзантемой, поражением дыхательных путей, применяли бактериологическое исследование материала из носа и ротоглотки на Corynebacterium diphtheriae – 27 (24,3%), соскоба из ротоглотки на флору – 28 (25,2%), кала на патогенную флору – 8 (7,2%), крови на флору – 3 (2,7%). По результатам бактериологического исследования Corynebacterium diphtheriae не обнаружили, в то же время в 10 (37,0%) из 27 соскобов ротоглотки на флору Candida albicans были выявлены в 5 (18,5%), Streptococcus anginosus – в 1 (3,7%), Streptococcus pyogenes – в 1 (3,7%), Streptococcus pneumoniae – в 2 (7,4%) и Staphylococcus aureus в 1 (3,7%) в необильном росте, а также Klebsiella pneumoniae – в 1 (12,5%) из 8 исследований кала. Однако обнаружение у этих пациентов РНК неполиомиелитных энтеровирусов в стерильных биологических материалах позволило диагностировать НЭВИ в качестве основного заболевания.
Кроме того, у части пациентов проводили серологические исследования: ИФА на антитела к ВИЧ – у 71 (64,0%), вирусам краснухи – у 31 (27,9%), кори – у 29 (26,1%), лихорадки Западного Нила – у 26 (23,4%), Эпштейна–Барр – у 3 (2,7%), цитомегаловирусу – у 2 (1,8%), вирусам опоясывающего лишая – у 2 (1,8%), ГЛПС – у 1 (0,9%), КГЛ – у 1 (0,9%), лихорадки Денге – у 1 ( 0,9%), гепатита А – у 1 ( 0,9%), а также боррелиям – у 20 (8,0%); реакцию пассивной гемагглютинации с иерсиниозным и псевдотуберкулезным антигенами – у 9 (8,1%), менингококковым антигеном – у 6 (5,4%), сальмонеллезными антигенами – у 3 (2,7%), сыпнотифозным антигеном – у 2 (1,8%), реакцию микроагглютинации и лизиса лептоспир – у 1 (0,9%), реакцию агглютинации Райта – у 2 (1,8%). Результаты серологического исследования продемонстрировали отсутствие значимости перечисленных антигенов в качестве этиологического фактора заболевания у обследованных.
Результаты
По клиническим формам НЭВИ распределялись следующим образом: менингеальная – 38 (34,2%) случаев, «экзантема полости рта и конечностей» – 59 (53,2%) и острое респираторное заболевание – 14 (12,6%). В 109 (98,2%) случаях течение заболевания было среднетяжелым, в 2 (1,8%) – тяжелым.
Предварительный диагноз «энтеровирусная инфекция?» был выставлен только 1 (0,9%) из 111 пациентов. Наиболее часто диагностировали острые респираторные инфекции – у 61 (54,9%) больного, менингит неуточненный – у 32 (28,8%), острый тонзиллит – у 10 (9,0%), пневмонию – у 3 (2,7%), острую кишечную инфекцию – у 2 (1,8%), ветряную оспу – у 1 (0,9%) и лихорадку неясной этиологии – у 1 0,9%).
46 (41,4%) пациентов поступали в стационар в летние месяцы, 49 (44,1%) – в осенние. 14 (12,6%) – в зимние и 2 (1,8%) – весенние. В стационар пациенты поступали на 3,5 ± 0,2 день болезни, средняя продолжительность госпитализации составила 8,4 ± 0,5 дня.
Менингеальная форма НЭВИ у 2 (5,3%) из 38 пациентов имела тяжелое течение, у 36 (94,7%) – среднетяжелое. Заболевание начиналась остро с фебрильной температуры у 29 (76,3%) больных, субфебрилитет с первых дней болезни отмечался у 9 (23,7%). Общая продолжительность температурной реакции составляла 3,8 ± 0,5 дня. Всех пациентов беспокоили слабость и недомогание, 4 (10,5%) чел. отмечали ознобы, 3 (7,9%) – потливость. Симптомы менингеального синдрома выявляли у всех пациентов с данной формой НЭВИ: головные боли – у 34 (89,5%), головокружение – у 22 (57,9%), тошноту – у 26 (68,4%), рвоту – у 22 (57,9%), ригидность мышц затылка – у 33 (86,8%), симптом Кернига – у 23 (60,5%). Реже встречались ретроорбитальная боль – у 9 (23,7%) больных, светобоязнь – у 4 (10,5%), неустойчивость в позе Ромберга – у 5 (13,2%), очаговые симптомы поражения головного мозга – у 2 (5,3%), симптом Брудзинского и патологические рефлексы – по 1 (2,6%). Менингеальную форму заболевания часто сопровождали симптомы поражения респираторного тракта. Так, гиперемию ротоглотки обнаруживали у 23 (60,5%) пациентов, на першение и боли в горле жаловались 8 (21,1%) больных. В 2 (5,3%) случаях отмечали диарею энтеритического характера с частотой стула до 3 раз в день на протяжении суток.
При исследовании спинномозговой жидкости во всех случаях ликвор был прозрачным, бесцветным, вытекал под давлением, микроскопически с умеренным цитозом (от 9,0 до 315,0 × 106/л) преимущественно лимфоцитарного характера в 30 (78,9%) случаях. Незначительное повышение белка (максимум до 1,4 г/л) отмечали в 26 (68,4%) случаях, содержание глюкозы, хлоридов не отличалось от нормы.
В общем анализе крови у большинства больных отмечался нормоцитоз, только у 6 (15,8%) – умеренный лейкоцитоз, у 12 (31,6%) – относительный и абсолютный моноцитоз, у 8 (21,1%) – гранулоцитоз. Среди исследованных биохимических показателей повышение уровней аминотрансфераз выявили в 8,1% случаев, креатинкиназы – в 18,5%, С-реактивного белка (СРБ) – в 45,5%.
Заболевание имело благоприятное течение и исходы. Тяжелое течение менингеальной формы НЭВИ в 1 случае отмечено у пациентки 24 лет с гнойным менингитом и диарейным синдромом, во втором – у пациентки 18 лет с длительным повышением температуры, выраженным интоксикационным синдромом и серозным менингитом.
Клинически «экзантема полости рта и конечностей» НЭВИ во всех случаях протекала в среднетяжелой форме, у 51 (86,4%) пациента начиналась остро с фебрильной температуры, у остальных 8 (13,6%) – с субфебрилитета. Общая продолжительность повышения температуры составляла 3,5 ± 0,2 дня. Признаки интоксикации, сопровождавшие повышение температуры, были следующими: слабость – у 56 (94,9%) больных, недомогание – у 55 (93,2%), озноб – у 10 (16,9%), потливость – у 6 (10,2%), ломота в суставах – у 3 (5,1%), адинамия и сухость во рту – по 1 (1,7%) случаю.
Частыми симптомами были гиперемия ротоглотки – 56 (94,9%) случаев, першение и боли в горле – 51 (86,4%), тонзиллит – 27 (45,8%) с наложениями на миндалинах – 22 (37,3%). Кашель беспокоил 17 (28,8%) больных, насморк – 4 (6,8%). Физикально жесткое дыхание обнаруживали у 11 (18,6%) пациентов, ослабленное – у 4 (6,8%). У 25 (42,4%) пациентов выявляли увеличение шейных лимфоузлов.
У всех больных с данной формой НЭВИ обнаруживали экзантему, которая появлялась на 2,5 ± 0,1 день болезни и сохранялась до 7,5 ± 0,1 дня. Наиболее часто морфологически сыпь была пятнисто-папулезной – в 29 (49,2%) случаях и везикулезной – в 12 (20,3%), реже пятнистой – в 7 (11,9%), папулезно-везикулезной – в 6 (10,2%), пятнисто-везикулезной – в 4 (6,8%) и везикулезно-пустулезной – в 1 (1,7%). 31 (52,5%) пациента беспокоил зуд кожи. Чаще всего сыпь локализовалась на ладонях и подошвах – у 29 (49,2%) больных, на ладонях, подошвах и туловище – у 15 (25,4%), реже – на ладонях, подошвах и лице – у 8 (13,6%), только на лице – у 5 (8,5%), только на туловище – у 1 (1,7%) и только на голенях – у 1 (1,7%). У большинства больных сыпь исчезала бесследно и только в 9 (15,3%) наблюдениях – после шелушения.
Энантему с локализацией на мягком и твердом небе, поверхности щек и языке находили у 38 (64,4%) пациентов, чаще всего в виде афт – у 20 (33,9%), реже в виде везикул – у 17 (8,8%) и папул – 1 (1,7%).
В 5 (8,5%) случаях у больных отмечали диарейный синдром: кратность стула колебалась от 1 до 6 раз в сутки, консистенция – от водянистого до кашицеобразного, продолжительность от 1 до 6 дней.
В общем анализе крови у 9 (15,3%) пациентов наблюдали умеренный лейкоцитоз при нормальном количестве лимфоцитов и нейтрофилов, у 35 (59,3%) больных – абсолютный моноцитоз. Повышение скорости оседания эритроцитов регистрировали только у 3 (5,1%) больных. В то же время повышение уровня СРБ отмечено у 30 (85,7%) из 35 обследованных на данный показатель пациентов.
Подъем активности АЛТ в начале заболевания отмечали у 15,2% пациентов, АСТ – у 8,7%, КФК – у 18,8%, ЛДГ – у 3,4%.
В общем анализе мочи существенных изменений не выявлено.
Наиболее редкой клинической формой у взрослых пациентов было острое респираторное заболевание, протекавшее у всех в среднетяжелой форме.
Начиналось заболевание у 12 пациентов остро с фебрильной температуры, еще у 2 с субфебрильной (общей продолжительностью 3,7 ± 0,6 дня. Повышение температуры сопровождалось слабостью и недомоганием у всех больных, ознобом – у 5 , ломотой в теле – у 3 , потливостью – у 2 , тошнотой – у 3 , болью в животе и грудной клетке – по 1.
Признаки катара верхних дыхательных путей регистрировали у всех 14 пациентов в виде гиперемии ротоглотки, боли и першения в горле – у 7, увеличения миндалин – у 4, насморка – у 3. Увеличение шейных лимфоузлов отмечали у 3 пациентов и диарею – у 1. Следует отметить, что в 5 случаях обнаружили слабовыраженную ригидность затылочных мышц, которую после получения результатов анализа спинномозговой пункции с нормальными показателями расценивали как симптом менингизма.
В общем анализе крови у 11 пациентов наблюдали нормоцитоз и умеренный абсолютный моноцитоз, в результатах биохимического исследования у 3 больных – повышение активности аминотрансфераз и у 8 – повышение уровня СРБ) от 8,1 до 128,2 мг/мл.
Обсуждение
НЭВИ в условиях спорадической заболеваемости по-прежнему представляет значительные диагностические трудности, о чем свидетельствует крайне низкий процент правильных предварительных диагнозов у наблюдаемых нами пациентов.
В структуре больных НЭВИ за четырехлетний период наблюдения преобладали молодые люди; более половины случаев составляла «экзантема полости рта и конечностей», менингеальная форма встречалась только у трети пациентов. Такое соотношение клинических форм НЭВИ в виде превалирования «малых форм» над менингеальными в структуре заболеваемости в эти же сроки наблюдения отмечалось в Краснодарском крае и в целом по России, что, по-видимому, обусловливалось эпидемиологической составляющей, циркуляцией определенных серотипов энтеровирусов, а также улучшением лабораторной диагностики болезни [3].
Течение НЭВИ у госпитализированных взрослых пациентов отличалось доброкачественностью, благоприятными исходами, основная масса больных перенесли заболевание в среднетяжелой форме, за исключением 2 случаев тяжелого течения менингита.
Наиболее частыми симптомами менингеальной формы болезни были кратковременная фебрильная температура, менингеальный синдром в виде головных болей, тошноты, рвоты, головокружения, ригидности мышц затылка и симптома Кернига, а также признаки катара верхних дыхательных путей. Патоморфологически менингит в большинстве случаев имел серозный характер с умеренным лимфоцитарным цитозом спинномозговой жидкости и незначительным повышением содержания белка.
Клиническими особенностями формы «экзантема полости рта и конечностей» НЭВИ была экзантема, чаще пятнисто-папулезная, с локализацией на ладонях и подошвах, а также энантема полости рта в виде афт и везикул, манифестирующих на фоне фебрильной температуры, слабости и недомогания, симптомов катара верхних дыхательных путей и шейного лимфаденита. Типичным лабораторным признаком этой формы болезни были абсолютный моноцитоз и повышение уровня СРБ.
Редкой клинической формой НЭВИ является острое респираторное заболевание, которое характеризуется катаром верхних дыхательных путей на фоне фебрильной температуры и явлениями менингизма у трети пациентов.
Подытоживая, можно отметить, что клинические признаки НЭВИ у госпитализированных больных не являются патогномоничными, а большинство наблюдавшихся опорных симптомов встречаются при других инфекционных заболеваниях. Так, например, клиническая форма «экзантема полости рта и конечностей», с одной стороны, является наименее сложной для предварительного диагноза по сравнению с другими формами НЭВИ в связи с типичными локализацией и патоморфологией экзантемы и энантемы, с другой – именно наличие высыпаний требует повышенного объема лабораторных дифференциально-диагностических исследований. Не является исключением и менингеальная форма НЭВИ, при которой, в связи с разнообразием патоморфологического характера спинномозговой жидкости (и гнойным, и серозным), встречавшимся у госпитализированных пациентов, требовался широкий спектр ПЦР-исследований, бактериологических и серологических методов диагностики.
Наименее «нагруженной» в плане лабораторного обследования оказалась НЭВИ в виде острого респираторного заболевания. Наличие лихорадки при этом определяло сходство НЭВИ прежде всего с гриппом, а в настоящее время – и с новой коронавирусной инфекцией, что следует учитывать в алгоритме лабораторного поиска [15, 16].
Исключение с помощью лабораторных тестов инфекционных заболеваний, сходных по клиническим признакам с НЭВИ, имеет принципиальное значение, поскольку многие из них предполагают этиотропное лечение препаратами прямого действия на возбудителей [15, 17].
Выводы
1. Среди госпитализированных взрослых пациентов с НЭВИ преобладают молодые лица, поступающие в стационар преимущественно в летне-осенний период со среднетяжелым течением заболевания (98,2%), чаще в форме экзантемы полости рта и конечностей (53,2%), серозного менингита (34,2%), реже – острого респираторного заболевания (12,6%).
2. Опорными признаками НЭВИ являются кратковременная фебрильная температура, сопровождающаяся недомоганием и слабостью, симптомы поражения верхних дыхательных путей, абсолютный моноцитоз и повышение уровня СРБ, встречающиеся у большинства пациентов, а также клинико-лабораторные признаки серозного менингита при менингеальной форме, типичные экзантема и энантема при «экзантеме полости рта и конечностей».
3. В условиях спорадической заболеваемости НЭВИ остаются сложными в диагностическом плане заболеваниями, практически исключающими возможность правильной постановки предварительного диагноза, требующими не только обязательной верификации заболевания, но и привлечения различных лабораторных тестов для исключения клинически сходных болезней, которые, в отличие от НЭВИ, могут предполагать этиотропное лечение препаратами прямого действия на возбудителей.